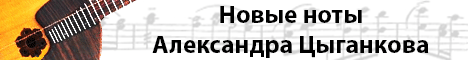"История русского народного оркестра"
Б.А. Тарасов Каждая книга имеет свою историю, и эта не исключение. Я по профессии музыковед, специалист по инструментовке для симфонического оркестра, ее истории и теории, свидетельством чего является книга «Избранные статьи по вопросам тембра, оркестровки и оркестроведения» (М.: Про-бел-2000, 2019). В начале 2000-х я встретился с бывшим своим сокурсником по РАМ им. Гнесиных В. Петровым, одним из авторов журнала «Народник», кстати, в то время я даже не знал, что такой журнал существует. Мы договорились с ним, что я буду сотрудничать с журналом. Помнится, что первым заданием для меня была просьба прокомментировать «Жизнеописание» Н.П. Фомина. Дальше пошло-поехало вплоть до 2013 года, когда журнал перестал выходить. В 2018 г. по совету профессора В. Китова я собрал все журнальные статьи и издал книгу, куда вошли еще несколько статей, которые были написаны позже, так сказать, по инерции. Эти два решения предоставляли для читателя своего рода проблему. Во-первых, потому, что журнальные статьи издавались, естественно, разрозненно, что не давало возможности охватить историю вопроса в целом. Во-вторых, то же самое случилось с книгой в 520 страниц, что также не давало возможности охватить весь материал целиком – слишком много его было. Попробовал компромиссный вариант: выявить самое главное в истории русского народного оркестра (в дальнейшем РНО) ХХ века – противостояние двух фигур – П.И. Алексеева и Н.П. Осипова. Издал и этот материал в книге на 260 стр. и все равно не был удовлетворен результатом. Наконец поиски завершились мыслью издать краткий курс РНО с возможностью пополнять недостающий материал из «Очерков» (см. далее). Пусть народники усвоят хотя бы этот текст, изложенный в небольшой брошюре, зато у них будет картина всего процесса становления РНО. Краткий курс предполагает сокращенное изложение исторических событий, поэтому я не буду здесь приводить доказательную базу, которая есть в книге. Книгу можно найти в интернете – это «Очерки по истории русского народного оркестра. Воспоминания» (М.: Пробел-2000, 2018), переиздана в 2022 г. без «Воспоминаний» (на нее мы и будем ссылаться далее). Итак, с чего начинается история русского народного оркестра? С андреевского балалаечного ансамбля, который после того, как Н.П. Фомин упорядочил его состав, все же обладал одним коренным недостатком – отсутствием мелодической кантилены. Именно это обстоятельство обусловило появление домры, несмотря на то, что о ней ничего не было известно, кроме того факта, что она когда-то была. Но сейчас не стоит уличать домру в ее искусственном происхождении. Инструменту, свыше века выполняющего основу РНО (как скрипичное семейство составляет основу симфонического оркестра), эти упреки уже не грозят. Сразу же имеет смысл сообщить читателю, что создателем РНО, в его пока еще неполном виде, следует считать не В.В. Андреева, а Н.П. Фомина. Андреев не мог выполнить эту задачу, хотя бы потому, что был музыкально неграмотным (не знал нот), но из этого вовсе не следует, что он не был талантливым композитором и дирижером. В качестве при-мера приведу негритянских джазовых музыкантов, которые в основе своей были музыкально неграмотными. Н.П. Фомин упорядочил строй балалаек, рассчитал параметры группы домр, привел общий строй оркестра к квартовому принципу, изобрел клавишные гусли и остановился перед созданием духовой группы. На этот состав оркестрованы все сочинения В.В. Андреева и его соратников. Что же дальше? Дальше для оркестра выпали тяжелые времена: 1) Смерть В.В. Андреева в 1918 г.; 2) Переезд советского правительства из Петрограда в Москву в 1919 г. Почему я считаю эту вторую причину самой главной? Да потому, что в Москве того времени уже существовал Госу-дарственный оркестр старинных инструментов под руководством Григория Павловича Любимова, который просто перечеркивал андреевскую реформу. Пожалуй, стоит здесь отметить, что Г.П. Любимов (это псевдоним Модеста Нико-лаевича Караулова) был революционером, его отец был на-родовольцем, а сам он бежал из ссылки, поэтому и сменил свои паспортные данные. Г.П. Любимов был в Москве участником Великорусского оркестра под управлением П.И. Гучкова, но ведь он был еще и революционером, поэтому решил устроить революцию в составе РНО, как он говорил, опираясь на опыт «западно-европейских товарищей». Но сначала мы должны обрисовать состояние нашей темы в Москве за 30 лет, т.е. с начала деятельности В.В. Андреева. Желающие могут подробно ознакомиться с этим в «Очерках» (два очерка «Андреев и Москва», стр. 49–73). В Москве того времени преобладали неаполитанские оркестры, «оркестры» В. Русанова, который не признавал оркестровых разновидностей, теперь к ним еще добавились «оркестры» Г. Любимова, которые состояли из одной (!) группы любимовских домр. Все усилия «революционера» расширить состав окончились неудачей. Тем не менее, благодаря связям (с братьями Красиными) был организован Государственный оркестр старинных инструментов, состоящий фактически из мандолин с одинарными струнами. Было налажено производство любимовских домр. Музыканты таких оркестров состояли либо из неудавшихся скрипачей, либо мандолинистов. Издавалась нотная литература (см. «Почему оркестровая концепция Г.П. Любимова оказалась не востребованной?» в «Очерках», стр. 441). Г.П. Любимов не скрывал, что затеял контрреформу в противовес андреевской. Дело принимало слишком се-рьезный оборот, ведь столица диктовала нововведения на всю Советскую республику, и здесь мы должны подчеркнуть роль личности в истории. Дело в том, что, если бы 7 августа 1919 г. в Москве не появились Петр Иванович Алексеев с семью андреевцами, история РНО была бы дру-гой, а именно – пошла бы по любимовскому пути. Поэтому я считаю П.И. Алексеева вторым человеком в истории РНО после В.В. Андреева. Оркестр П.И. Алексеева, состоящий из 20 человек, сначала выступил на равных с «оркестром» Г.П. Любимова на конкурсе, специально организованном летом 1920 г., а за тем победил его в конкурсе от 15 февраля 1930 г., на котором решалось, какой из двух оркестров будет зачислен в штат Всесоюзного радиокомитета. В 1934 г. П.И. Алексеев был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, а с 1936-го оркестр был переведен в систему Комитета по делам искусств Союза ССР, с переименованием в Государственный оркестр народных инструментов Союза ССР и с доведением состава оркестра до 70–80 исполнителей (см. «Очерки», «Петр Иванович Алексеев», стр. 257). Конечно, надо отдать должное П.И. Алексееву, его умению организовать оркестр и мастерски дирижировать, будучи самоучкой. Но в борьбе с Г.П. Любимовым значительная роль принадлежала тому типу оркестра, которым дирижировал именно он. И здесь мы подходим к одной важной про-блеме, о которой народники не имеют ни малейшего понятия. Далее речь пойдет о законах оркестрового строительства, которых я насчитываю семь: 1) На оркестровом инструменте должны быть полностью решены проблемы хроматизации и темперации его звукоряда. 2) Основные инструменты оркестра образуют группы, которые формируются на условиях представительства каждого тембра на всех участках оркестрового диапазона. 3) Количество групп не превышает четырех. 4) В оркестре должны быть: главная группа, две контрастирующие и вспомогательная группа (ударные и пр.). 5) Оркестр представляет собой систему, тяготеющую к высшей целесообразности и экономичности своих элементов. 6) Оркестр – система, тяготеющая к стабильности своих элементов. 7) Оркестр входит в музыкальную практику со своим репертуаром. (см. «Очерки», «О предпосылках формирования состава РНО», стр. 7–9). Нетрудно заметить, что РНО П.И. Алексеева по свое-му составу равен андреевскому, но в 1938 г. П.И. Алексеев делает попытку привлечь в свой оркестр гармоники – это квартет монофонов, баян и концертино. Однако, в 1945 г., когда он организует новый оркестр Всесоюзного радиокомитета (ВРК), он берет группу гармоник, созданную в 1936 г. К.С. Алексеевым для оркестра любимовского типа, и после некоторой правки вводит ее в свой оркестр. Этому помогло то обстоятельство, что на гармониках К.С. Алексеева была установлена клавиатура, которая к этому времени получила наибольшее распространение (см. «Очерки», «К.С. Алексе-ев», очерк второй, стр. 194–207). А между тем среди народников бытует мнение, что первым в оркестр ввел никому не нужный баян Н.П. Осипов. П.И. Алексеев также ввел в свой оркестр флейту и гобой, и это было правильно, поскольку контрастирующая группа, в данном случае гармоники, должна быть более разнообразной. Если все усилия Г.П. Любимова привели к построению одной группы, то в случае с Н.П. Осиповым мы наблюдаем крен в противоположную сторону. Здесь Н.П. Осипов не был оригинальным, он просто украл идею у В.В. Хватова, который в свою очередь украл у Н. Привалова, – идею объединения всех русских народных инструментов в оркестре. Крадут идеи, когда ни на кого не ссылаясь, приписывают их себе. Дело в том, что Н. Привалов был инструментоведом, а инструментоведы зациклены на том, чтобы в оркестре были все известные им народные инструменты, проще говоря, свалить все в кучу (см. «Очерки», стр. 373). В результате Н.П. Осипов получил оркестр, состоящий из восьми народных духовых инструментов и восьми инструментов «меховой группы» – секстет концертин (английский инструмент) и двух баянов. Не устану повторять – баяны в оркестре не нужны, их средства избыточны, поскольку нарушается 5-й закон. 16 духовых инструментов – это явный перебор, с нарушением 3-го закона. Кроме того, планировал-ся квартет звончатых гуслей. Осталось только добавить, что мы должны быть благодарны Н.П. Осипову, что он не ввел в РНО группу любимовских домр наряду с андреевскими, а ведь такую рекомендацию мы у Н. Привалова находим. Понадобилось 80 лет, чтобы практика сама освободилась от этого «великого наследия» Н.П. Осипова. Сейчас в оркестре остались от былого «величия» лишь 3 или 4 владимирских рожка. «Музгиз» в советское время отказывался печатать партитуры, создаваемые в осиповском оркестре, по причине крайней нестандартности его состава, к тому же уменьшающегося с течением времени. Возникает вопрос – чем вызвана такая позиция руководителя оркестра? Мой ответ таков: Н.П. Осипову необходимо было доказать высокому начальству, что он создал совершенно новый оркестр, не имеющий ничего общего с довоенным оркестром П.И. Алексеева, и в этом он преуспел. Это соображение плавно переводит меня на разговор о моральном облике Н.П. Осипова, чего народники категорически не желают, ведь оркестр назван его именем. Начну с того, что Н.П. Осипов увеличил свой возраст на пять лет. Это ему понадобилось для того, чтобы было естественным окончание им Петроградской консерватории в 1918 г., так как он, родившийся в 1901 г., не мог на это рассчитывать. Конечно же, он в ней не учился ни дня, но утверждал, что окончил консерваторию по скрипке у зна-менитого профессора Л. Ауэра, причем с золотой медалью. Также он сообщал в анкетах и устно, что окончил Петро-градский университет как юрист. С этой целью он потерял паспорт в 1922 г. при переезде в Москву. Как говорил один персонаж: «лгите, и чем чудовищней будет ложь, тем скорее в нее поверят». Мы видим на примере двух наших героев, как П.И. Алексеев переезжает в столицу, чтобы спасти андреевское дело, а Н.П. Осипов – для того, чтобы построить карьеру на лжи и обмане. «Наживку» проглотил знаменитый (по тому времени) С. Василенко. Историю кражи у Б. Трояновского Концерта для балалайки с оркестром можно прочитать в «Очерках» (стр. 222). Очарованный Н.П. Осиповым композитор заканчивает Концерт для балалайки с симфоническим оркестром, наделавший много шума после исполнения. Н.П. Осипова сразу же приглашают преподавать в музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне им. А. Шнитке). Затем Н.П. Осипов принимает участие во Всесоюзном смотре исполнителей на народных инструментах, где делит первое место с П.И. Нечепоренко. Это его не устраивает, поскольку он ощущает себя единственным. И тут подвернулась удача. Дело в том, что правительство решило укрепить финансо-вые доходы семьи Н.С. Голованова, которые значительно сократились в связи с увольнением его из Большого театра. С этой целью его назначили художественным руководите-лем двух оркестров – Государственного оркестра народных инструментов СССР и Государственного духового оркестра с мая 1939 г. Эта должность не существовала ранее и пред-назначалась для Голованова персонально. К концу 1939 г. обстоятельства изменились, и Голованов оставил оба орке-стра, а П.И. Алексеев как был в то время замом худрука, так и работал в качестве главного дирижера. Должность худрука повисла в бюрократических раскладах, и Н.П. Осипов моментально просчитал все преимущества – он будет художественно руководить, а не дирижировать, но П.И. Алексеев будет у него в подчинении. В 1940 году мечта Н.П. Осипова осуществилась. С. Василенко с М. Черемухиным по-рекомендовали Н.П. Осипова на пост худрука оркестра министру культуры (если переводить на современный язык) М.Б. Храпченко. П.И. Алексеев возмутился, ведь он заслуженный артист РСФСР и автор этого оркестра, которым руководил 21 год! Он подал в отставку, и отставка тут же была принята (см. «Очерки», стр. 289–298). Народники обо всем этом читают, но сделать ничего не могут (точнее не хотят), ведь оркестр назван именем Н.П. Осипова, значит, он должен быть вне подозрений. А какие тут подозрения, когда все факты налицо. Надеюсь, чита-тель сам разберется в документах (см. «Очерки», стр. 337– 403). Получив оркестр, Осипов не знал, что с ним делать, поскольку никаким дирижером не был. А дирижировать же стали его брат Д.П. Осипов, который имел диплом дирижера и В.С. Смирнов (друг юности). Не стану здесь раскрывать эту тему (см. «Очерки», стр. 360–369), скажу лишь, что осиповско-смирновская эпоха оркестра, начавшаяся в 1940 г., закончилась в 1960 г. полным крахом, когда весь без исключения оркестр проголосовал против В.С. Смирного (см. «Очерки», стр. 315–316). Мне остается только рассказать, как было присвоено имя оркестру. Н.П. Осипов умер 9 мая 1945 г. Через год его вдова, нарядившись в траурную одежду, посетила ряд вокалистов, когда-то певших с оркестром и имеющих звание народных артистов СССР, попросив их подписать документ о присвоении оркестру имени Н.П. Осипова, что они и сделали. Им было сказано, что это делается в честь 50-летия рождения. Хотя уж кто-кто, а вдова и брат знали, что в 1946 г. Осипову должно было исполниться 45 лет. К слову сказать, Дмитрий Петрович Осипов на протяжении всей своей жизни поддерживал брата в его «начинаниях» – все это происходило в обход мнения оркестра и общественности. И все 80 с лишним лет мы расхлебываем кашу, заваренную в то далекое время. Присвоение имени оркестру оказалось самым «успешным» проектом, не будь этого, никто и не вспоминал бы Н.П. Осипова как руководителя оркестра. Отсюда вполне естественно вытекает мое требование – убрать его имя из названия оркестра. Мне могут возразить, мол, все уже привыкли к этому названию, но я бы ответил, что все точно так же привыкли к названию Кировского театра оперы и балета, но все-таки заменили его на Мариинский. Что же касается состава оркестра, то представляется идеальным состав Академического оркестра русских народ-ных инструментов имени Н.Н. Некрасова, сознательно (или бессознательно) придерживающегося традиции П.И. Алексеева, когда в оркестр не допускаются инструменты звучащие фальшиво – их место в ансамбле. Кроме того, в этом оркестре звучат оркестровые гармоники, а не пятирядные «Юпитеры» с регистрами. Проблема состава РНО является актуальной не только в связи с составом оркестра им. П.И. Осипова. Рассмотрим состав оркестра им. В.В. Андреева, к которому надо относиться с особой осторожностью, как к продолжению наследия его создателя. Представляется, что это давно уже не заботит руководителя оркестра – фамилия здесь не важна. Жажда реформирования привела РНО к следующему составу: домры, балалайки, группа деревянных духовых симфонического оркестра – 1 фагот, 1 кларнет, 2 гобоя, 2 флейты, затем 2 баяна, иногда привлекается группа медных духовых, а ведь В.В. Андреев считал, что нельзя копировать состав симфонического оркестра («Очерки», стр. 430). В таком случае, зачем эти два баяна, «снижающие» благородное звучание соседей? Не потому ли руководитель убирает из названия оркестра слово «народный» (Государственный академический русский оркестр)? А ведь полуправда, как известно, хуже всякой лжи. Неплохо бы нарисовать перспективу такого подхода к делу и посоветовать вообще убрать баяны из оркестра, а домры заменить скрипичным семейством. Балалайки же оставить, они все равно не будут слышны. Вопрос возни-кает только с названием «русский», но и это со временем можно упорядочить. Понимаю, что руководитель оркестра хочет достойно исполнять симфоническую музыку, но на этот счет давно уже есть исчерпывающее заключение: «если приступающий к переложению симфонического произведения ставит своей целью добиться от духового оркестра (в нашем случае – народного) имитации оригинального звучания, то он никогда не получит удовлетворительного результата. И это не удивительно, так как по своему общему звучанию симфонический и духовой (народный) оркестры слишком отличаются друг от друга, каждому из них присущи свои индивидуальные черты, и в этом их достоинство. Поэтому, если говорить о качестве переложения, то оно определяется не степенью звукового приближения к оригиналу (с этой точки зрения ни одно переложение нельзя признать удовлетворительным), а степенью убедительности отражения характера данной музыки специфическими средствами духового (народного) оркестра. Именно в нахождении такого звукового образа, который, будучи несколько отличным от оригинала, все же вполне бы соответствовал характеру и идейно-художественному содержанию музыки, и заключается основная задача переложения» (Сальников Г. Переложение симфонических произведений для духового оркестра. М.: Музыка, 1969. С. 166–167. (Курсив мой. – Б.Т.)). О том, какой «порядок» сейчас существует в сфере народных оркестров я узнал из письма одного моего знакомого дирижера. Он просил меня проконсультировать его по одной из партитур, которую должен был продирижировать оркестром ВСЕОНИ. Спрашиваю: «Что это такое?» Он отвечает: «Всероссийский молодежный оркестр народных инструментов. Оркестр сборный, от Калининграда до Владивостока. В оркестре 6 баянов (хотя 5 партий), есть одна осетинская гармонь. Также в составе оркестра присутствуют кыл-кубызы (башкирские скрипки), одни цимбалы, один курай диатонический». В таком случае у меня ещё один вопрос: «А почему нет, например, таких инструментов как морин хуур или чанза и ятаг – буряты же могут обидеться?» Но если говорить серьезно, то я, наконец, дожил до того времени, когда осуществилась давнишняя мечта одного из мечтателей, ко-торый в 1938 г. писал в статье «Создадим оркестр народов СССР»: «Если такие замечательные результаты дает соединение в ансамбль инструментов одной национальности, то почему не попытаться объединить в стройное целое музыкальные инструменты различных народов СССР?» (журнал «Народное творчество», 1938, № 6, стр. 19). Добавлю лишь, что речь идет о 12 республиках на то время. Следует заметить, что политика не должна управлять искусством. Но с некоторых пор я стал опасаться вестей с не-объятных просторов нашей родины – а вдруг там обнаружатся новые свидетельства «творчества» масс. Суммирую: история РНО строится, повторюсь, на полуправде, которая, как известно хуже всякой лжи. Теория же находится в зачаточном состоянии. В частности, если говорить о ее вкладе в формировании оркестра, то это интуитивно найденная группа гармоник с флейтой и гобоем. Этим мы обязаны обоим Алексеевым (К.С. и П.И.). Почему именно гобой и флейта? На это у меня два ответа: 1) поскольку группа гармоник является контрастирующим элементом, то степени контраста в виде однородной массы гармоник явно недостаточно; 2) у гармоник сила звука с набором высоты уменьшается, поэтому, например, при дублировке вверху необходима сила флейты с гобоем. На этом основании кларнет и фагот в РНО не нужен, поскольку они похожи по тембру с гармониками, а все, что лишнее оркестр не должен принимать. И если уж принимать что-то сверх указанного, то пару труб, а не группу медных духовых, и то, если они необходимы при исполнении симфонического репертуара. Подвожу итоги по составу оркестра. Современный РНО должен состоять из четырех групп: 1) группа трехструнных домр; 2) группа балалаек; 3) группа оркестровых гармоник плюс одна (две) флейты, один (два) гобоя, в случае необходимости 2 трубы; 4) ударные и сопутствующие инструменты, гусли клавишные, в случае необходимости, гусли щип-ковые. Все другие попытки следует считать дилетантскими. Седьмой закон строительства оркестра гласит: каждый оркестр входит в историю музыки со своим репертуаром. Мне уже доводилось излагать свои мысли по этому поводу (см. «Очерки», стр. 208–212). Здесь я хотел бы лишь акцен-тировать внимание читателя на необходимости пропагандировать именно русскую музыку, если это слово есть в названии оркестра, а именно музыку XIX–XX веков, как классическую в виде переложений, так и оригинальную. Относи-тельно переложений скажу, что вообще надо бы проверить части симфоний Римского-Корсакова, Бородина, Балакирева, Даргомыжского, Аренского, Глинки (например, Симфонию на две русские темы), список можно продолжать. Далее, могут пригодиться увертюры, например, как-то недавно я разыскал увертюру А. Аренского к опере «Сон на Волге» с цитатой темы русской народной песни «Вниз по матушке, по Волге», переложил ее для оркестра им. Н.П. Осипова. Исполнение прошло с большим успехом. Но сказано же, что мы ленивы и не любопытны, а надо быть любопытными, тогда и лень пройдет. Но в еще большем долгу мы перед композиторами, писавшими для нашего оркестра. Скажем, вы часто слышите сочинения Н. Чайкина, В. Бояшова, Г. Фрида, Н. Будашкина, С. Коняева, П. Куликова, ведь он не одну только «Липу вековую» написал? Список легко поддается расширению. Мне кажется, стоит отказаться от пропаганды, например, музыки М. Равеля или А. Пьяццоллы в пользу русской музыки, во всяком случае, в этом надо бы находить разумные пропорции. И, наконец, последнее. Есть хорошая назидательная фраза: «народ, лишенный исторической памяти, обречен на забвение», которую я перефразировал бы так: «народники, лишенные исторической памяти, обречены на забвение». Ибо в лучшем случае они имеют перспективу игры в кабаке, и, как мне представляется, «процесс уже пошел». Воспоминание о С.М. Колобкове Это имя, без преувеличения, известно каждому народнику и не только народнику, но и другим музыкантам. Сергей Михайлович принадлежал к редкому типу людей, которые с одинаковой эффективностью проявляют себя в разных об-ластях. Существует превосходный очерк о Сергее Михайловиче в книге Б.М. Егорова «Факультет народных инструментов Российской академии 2000), принадлежащий одному из талантливейших учеников Сергея Михайловича – Фридриху Липсу, поэтому отсылаю читателя к этому очерку. Роясь в отечественной истории музыки, я нашел лишь одну аналогию Сергея Михайловича в лице Николая Рубинштейна. Инструментальное исполнительство, дирижирование, педагогика, организация учебного процесса – все эти сферы были охвачены обоими с впечатляющими результатами. Пройдя путь от первого выпускника-народника ГМПИ им. Гнесиных до ректора, кстати, переименовавшего институт в Академию, он создал одну из выдающихся баянных школ. Как исполнитель на баяне Сергей Михайлович также был на высоте. Записей осталось совсем немного: Концерт Ф. Рубцова для баяна с оркестром, Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля», Концертная пьеса С. Коняева для баяна с оркестром. Здесь я умолкаю перед оценкой Ф. Липса. Прожив почти восемьдесят лет, Сергей Михайлович, похоже, никогда не покидал дирижирования, проработав в различных оркестрах, он, все-таки, по-видимому оказывал предпочтение учебному оркестру Академии, и, наконец, Сергей Михайлович был заведующим кафедрой, проректором по учебной работе, ректором – всюду добиваясь выдающихся результатов в организации учебного процесса, ряд лет рабо-тал заместителем министра культуры РСФСР. Переехав в Москву в 1992 году и появившись в родном вузе, я с удивлением увидел вывеску – Высшая школа музы-ки им. Гнесиных. Что это было?!.. Теперь перехожу непосредственно к воспоминаниям. Конечно, я множество раз видел Сергея Михайловича во время своей учебы в училище, институте им. Гнесиных, в аспирантуре. Но пообщаться с ним посчастливилось за год до его ухода из жизни. В 2006 году Академию заканчивал один из его последних студентов-дирижеров – Евгений Волчков. Он сдавал выпускной экзамен на оркестре «Радио и телевидения», которым руководил Н.Н. Некрасов. Я же оказался на экзамене только потому, что Евгений дирижировал среди прочего одну из моих партитур – «Пляска щеголих» из музыки балета И. Стравинского «Весна священная». Наблюдаю сцену: Сергей Михайлович настойчиво предлагает Н.Н. Некрасову обратить внимание на мою публикацию в журнале «Народник»: «Ты пойми, человек специально съездил в Питер, на свои деньги, чтобы это написать!». Некрасов отмахивается от него, явно не желая что-либо даже слышать об этом. А на самом деле, зачем это ему? Ведь он же народный артист СССР, профессор, он и так все знает. Чуть позже Евгений познакомил меня с С.М. Колобковым. Экзамен окончен, и мы выходим вместе с Сергеем Михайловичем на улицу. Это было весной 2006 года. Сергей Михайлович спрашивает меня: – Кто вы, народник? – Нет, я музыковед, – отвечаю. – А как вы?.. – Я в 1961 году поступил в институт им. Гнесиных на заочное отделение по классу баяна и на первой же сессии перевелся на 1 курс училища им. Гнесиных на теоретическое отделение. А потом, через три года, вторично поступил уже в институт теоретиком. – Тогда понятно… Далее он сказал, что всегда считал, что в музыковеды должны идти такие люди, которые не мыслят себя вне музыковедения. Начав разговор на какую-то тему, я говорю: – Даже такой ученый, как Евгений Иванович Максимов…. Сергей Михайлович меня перебивает: – Женя? Максимов?! Какой же он ученый?! Так… Здесь я вынужден хотя бы частично согласиться с Сергеем Михайловичем. Дело в том, что когда народники что-то пишут о своей области, они уподобляются человеку, вынужденному высказаться как бы в свой адрес. Отсюда недомолвки, «ужимки и прыжки» (по И. Крылову), что иногда доходит до прямой лжи. Очевидно, Сергея Михайловича «зацепил» мой материал под названием «Н.П. Фомин. Жизнеописание» и мои размышления на эту тему – «В поисках истины» и «Заметки об Андрееве». Я спрашиваю его: – А вы не читали «В.В. Андреев и Москва»? – Нет. Попрошу вас передать мне эти номера журналов «Народник». Что вы там «нарыли»? Мне интересно. Так незаметно, за разговором, мы подошли к метро. Пора было прощаться. Довольно долго мы оба молчали. Первым молчание прервал Сергей Михайлович. Во время прощального рукопожатия, он оставив свою руку в моей сказал: – Я надеюсь на вас, что вы и дальше будете правдиво освещать нашу историю. Всего доброго и до свидания! Меня поразил его уровень общения со мной, который я бы обозначил как «на равных». В этом секрет большой, громадной личности. И теперь, в то время, когда я пишу эти строки, я с полной уверенностью могу сказать: «Дорогой Сергей Михайлович, я переписал историю народных инструментов в ее оркестровой части. Надеюсь, выбыли бы довольны тем, как я это выполнил. Через девять лет я закончил эту работу, которая вылилась в книгу под названием „Очерки по истории Русского народного оркестра. Воспоминания“ (М.: Пробел-2000, 2018), за которую я получил звание почетного профессора РАМ им. Гнесиных, то есть Вашей Академии. И я всегда буду помнить о той оценке, которую вы дали этой работе в самом ее начале». Я отлично помню, с каким, выражаясь предельно дипломатично, скепсисом были встречены мои первые публикации в журнале «Народник» среди народников. Исключение со-ставляло трио авторов журнала. И в то время поддержка такого мэтра народно-инструментального искусства для меня значила чрезвычайно много. Складывалось такое впечатление, что Сергей Михайлович, как будто дожидался моих статей и, наконец, дождался. Обращение к народникам Для начала прочтите то, что написано на задней сторон-ке обложки настоящего издания. Теперь вы понимаете, что я такой же народник, как и вы, только плюс историк и теоретик музыки, затем – специалист по истории и теории оркестровки для симфонического оркестра и, наконец, аранжировщик для русского народного и симфонического оркестров. Я фактически переписал для вас историю РНО, которая, конечно же, нуждается в дальнейшей разработке, но основные вехи вам указал. История получилась правдивая, а не с фантазия-ми и мифами ваших историков. В 2000 году, когда я работал в Электростальском музыкальном училище им. А.Н. Скрябина, к нам в училище при-ехал на госэкзамены профессор РАМ им. Гнесиных Виктор Семёнович Чунин. После экзамена за рюмкой чая разговорились. Он, узнав, что я музыковед в ранге доцента плюс народник, попросил меня написать статью в подготовляемый им сборник Академии. Подумав немного, я согласился. Статья вышла в 2000 году, и тут В. Петров узнал о том, что я нахожусь совсем рядом, в Электростали. Мы были знакомы с ним по учёбе в Академии, были сокурсниками и жили по соседству в общежитии. Валерий попросил меня участвовать в работе над журналом «Народник», редактором которого он являлся. Ещё во время написания статьи для В.С. Чунина я почувствовал, что что-то с историей русских народных инструментов неладно. Спешу оговориться – не с историей, а с историками. Так, например, в статье «Чайковский, Андреев и балалайка» шла речь об исполнении IV симфонии П.И. Чайковского совместно с Великорусским оркестром. Акция была провальной, но почему-то историки Е. Максимов и М. Имханицкий подавал и её как важный этап в признании Великорусского оркестра, как правомочного участвовать в подобных случаях (см.: Очерки по истории русского народного оркестра. – М.: Пробел-2000. – С. 27–48). Дело в том, что здесь историками была применена тактика умолчания. Как говорит наш новый военный министр А. Белоусов: «Ошибаться можно, врать нельзя», к этому я бы добавил «умалчивать нельзя». Не стану мелочиться, если вы почитаете мои «Очерки», то убедитесь в том, что я фактически переписал историю русского народного оркестра (не инструментов). Причём некоторые умалчивания напрямую связаны с деятельностью братьев Осиповых. Возьмём такие фигуры, как П.И. Алексеев и К.С. Алексеев (о нём ни слова). О первом из них всё-таки написал Е.И. Максимов, но как? Он представил дело таким образом, что Алексеев как-то «исчез», его сменил Н.С. Голованов, которого в свою очередь сменил Осипов, мол, нечего из избы сор выносить. В резуль-тате в «избе» столько скопилось мусора, который вообще-то лучше назвать правдой, что вот и приходится в этом разбираться таким, как я. Есть ещё одна проблема, которую создала вдова Н.П. Осипова Наталья Всеволодовна Осипова (урождённая Пересвет) и которая позволяет говорить о роли личности в истории (см. об этом на с. 12, наст. изд.). Так одна женщина обеспечила своему покойному супругу посмертную славу, потому что если бы она этого не сделала, то никто не знал бы Н.П. Осипова как дирижёра и руководителя оркестра, как, собственно, и сейчас мы об этом ничего не знаем, что бы ни говорили по этому поводу. Как это повлияло на историков? Они возомнили, что Н.П. Осипов – это наше всё. Читайте мой материал об этом, где доказывается, что Н.П. Осипов – это наше ничего. Но почему-то ваши историки не торопятся написать материалы на тему Н.П. Осипов – это наше всё. Я не стану развивать эту тему, читатель поймёт, если прочитает об этом в «Очерках». Тут недавно мне подарили одну замечательную книгу под названием «Диалоги с Д.С. Дмитриенко», автор М.И. Имханицкий. Объём 512 страниц убористого текста. Книга замечательна тем, что это книга – фейк, она написана одним автором, а форма диалога в ней исключительно для «оживляжа». Тем не менее это обстоятельство её не спасёт, её никто читать не будет. М.И. Имханицкий назвал в своей книге меня ярким публицистом, очевидно намекая на то, что я работаю на публику. Я тоже не останусь в долгу и назову его туманным философом, творения которого, возможно, станут доступны для прочтения только в ХХIII веке, настолько она опередила своё время. Лично для меня М.И. Имханицкий прекратил своё существование как историк русского народного орке-стра после сцены, которую я описал в книге «Воспоминания и реплики» (Пробел-2000, 2022. – C. 135) и которую здесь с удовольствием повторю. 28 августа создатели журнала «Народник» и постоянные корреспонденты журнала собираются на ежегодную встречу. Поводом для этого служит день рождения Натальи Николаев-ны Умновой – редактора издательства «Музыка», а заодно и журнала «Народник». И вот как-то на одной из встреч я задал М.И. Имханицкому вопрос: «Миша, а почему ты в своих кни-гах не придаёшь должного внимания П.И. Алексееву?» Он, конечно же, не ожидал такого вопроса и промямлил что-то вроде: «Да я как-то особенно-то и…» Тут вмешивается в раз-говор Валерий Петров: «Миша, ведь Пётр Иванович создатель двух наших лучших оркестров». Наконец Миша выдавливает из себя: «А Чунин сказал, что он слабый был дирижёр». Что на это сказать? Несчастна та историческая наука, виднейший представитель которой, доктор искусствоведе-ния, профессор, пользуется в своих исследованиях методом ОБС («одна бабка сказала»). Читатель, я вовсе не против мнения профессора В.С. Чунина, но я против того, чтобы судить о таком явлении, как П.И. Алексеев, на основании одного лишь мнения, пусть даже профессора. Так что, дорогие народники, присматривайте за своими учёными, ход ваших мыслей я определил |
|