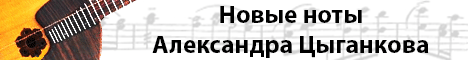В 2018 году вышла в свет книга под названием «Дирижерский портрет Валентины Ивановны Тарасовой (Богомоловой)» в память о супруге, ушедшей из жизни в 2012 году, переиздана с дополнением в 2022 году и наконец, в 2023 году издана книга «Портреты музыкантов. П.И. Алексеев и Н.П. Осипов» (М., «Пробел — 2000», 2023 г.), освещающая собой главнейшие проблемы истории русского народного оркестра в XX веке.
Особняком стоит деятельность, связанная с аранжировкой. Количество партитур для русского народного оркестра не поддается исчислению за 60 лет работы. Они исполнялись, главным образом, тремя коллективами — Оркестром Новосибирской Филармонии (художественный руководитель и главный дирижер Народный артист России профессор В.П. Гусев); НАОНИР им. Н. Осипова (художественный руководитель и главный дирижер Народный артист России профессор В.А. Понькин, в настоящее время дирижер оркестра Е. Волчков); Учебным оркестром КГИИ города Красноярска (дирижер доцент В.И. Тарасова). Несколько десятков партитур выполнены для симфонического оркестра Электростальского музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина (дирижеры В.И. Тарасова и Е. Волчков).
Исследовательская работа по истории русского народного оркестра оказалась наиболее востребованной и оцененной. Так, 21 февраля 2023 года Ученый совет РАМ им. Гнесиных присвоил Тарасову Б. А. Звание почетного профессора Академии. «За значительный вклад в развитие отечественного искусства и науки в области музыки для оркестра народных инструментов».
В чем принципиальная разница между традиционной литературой по истории русского народного оркестра и исследованиями Б.А. Тарасова? В том, что она написана музыковедом, но музыковедом, имеющим, если можно так выразиться, «народные корни», то есть человеком, который вышел из народников и развивался как музыковед. Впрочем, отличие это обрисовано автором в реплике «Как скажем, так и было», или «О том, как народники пишут свою историю» («Воспоминания и реплики», стр.163). Оказалось, что самым сложным для народников является писать правду о своей истории. Б.А. Тарасов издал пять книг:
1. «Очерки по истории русского народного оркестра» - М., «Пробел -2000» 2022 г.
Фейковый юбилей
Близится к своему 100 -летнему юбилею оркестр русских народных инструментов Ленинградского радио под управлением заслуженного артиста РСФСР Василия Васильевича Кацана. Я вполне осознаю, что для подавляющего числа народников это ересь, помноженная на непонимание. Но спокойней, давайте разбираться. Сразу же оговорюсь, почему я собираюсь расшифровывать это утверждение в связи с очерком Юрия Григорьевича Ястребова (Ю.Г. Ястребов «Размышления у парадного подъезда», «Народник», №3 (75), 2011, стр. 32-37). Дело в том, что вполне солидаризируясь с ним в оценке Д. Д. Хохлова, я постараюсь дополнить его материал теми сведениями, которыми он либо не располагал, либо о которых решил умолчать. В первую очередь это касается названия оркестра. И начну я с одного интересного документа, созданного в ответ на просьбу ленинградцев возродить оркестр имени В.В. Андреева, датированного 17 мая 1948 года:
«Рассмотрев письмо (…) Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР сообщает следующее:
Выдающиеся заслуги В.В. Андреева в организации оркестра народных инструментов и значение оркестра имени А.А. Андреева в развитии русского музыкального искусства высоко ценятся и именно поэтому Комитет по делам искусств специальным концертом в Москве отметил 60-летие со дня существования оркестра народных инструментов. В связи с тем, что война помешала деятельности оркестра им. Андреева, в Москве был создан Государственный русский народный оркестр, который продолжает дело пропаганды русского музыкального творчества. Создавать вновь в Ленинграде оркестр народных инструментов, где имеется оркестр в Радиокомитете, Комитет по делам искусств не считает в настоящее время возможным.
Председатель Комитета по делам искусство при Совете Министров СССР П. Лебедев».
Об оркестре им. Андреева, как действующей единице, следует забыть. Этот вопрос был решен Н.П. Осиповым в 1943 году вполне определенно, он даже зарезервировал для себя имя оркестра – так получилось. В самом деле, вывозя из Ленинграда в Москву все инструменты оркестра, его архив, архив В. Андреева, нотную библиотеку Н. Осипов фактически уничтожил оркестр им. Андреева. Вы скажете, что осталось главное – люди. Но, во – первых, сколько их погибло во время блокады никто не считал. Во-вторых, если даже верна цифра 42 человека то, где они будут играть в оркестре рядом? Но он заполнен до отказа, кроме того, если до войны его состав насчитывал 80 человек, то в условиях радиостудии такой оркестр не разместить, максимум 40 человек. Вообще, куда ни кинь, всюду клин.
Как-то я позвонил в оркестр им. Андреева, мне ответила милая женщина, назвавшаяся Татьяной Кузьменко. Я спросил ее, как так получилось, что радиооркестр был назван именем Андреева? Она вполне уверенно заявила, что это был один оркестр, просто оркестранты из оркестра им. Андреева совмещали деятельность в оркестре радио. «Историограф» оркестра явно не знала того, что, когда в 1936 году оркестр им. Андреева стал Государственным и, следовательно, был увеличен до 70 или 80 человек, совмещение было прекращено (повышение зарплаты способствовало этому) и радиооркестру пришлось добирать состав из музыкальной самодеятельности. Кстати, такое же испытал и Госоркестр П.И. Алексеева в Москве в 1936 году. (См. мою книгу, страницу 275 «Очерки по истории русского народного оркестра»). С этого момента нельзя говорить о какой-либо преемственности поколений, оркестры стали объективно конкурентами друг другу, что чувствуется даже в 1958 году.
А как все-таки в самом оркестре реагировали на эту ситуацию? Это можно выяснить только из частной переписки. Так, например, 16 января 1958 года (!) П.И. Алексеев пишет М.П. Зарайскому: «До мена дошли слухи, что оркестр им. Андреева воздерживается отмечать 70-летие со дня первого выступления Андреева с ансамблем, т.е. отметить-то может быть они и отметят каким-нибудь очередным выступлением по радио, но не от лица оркестра Андреева. По-видимому, в этом коллективе и, наверное, в руководстве Ленрадио склонны придерживаться своей местнической точки зрения в исторических вопросах организации коллектива, и несомненно, там будут вести счет времени работы коллектива со дня организации его В. Кацаном» (Музей им. М. Глинки ф. 695, оп. 2, ед. хр. 31, лист 24. 16 января 1958 года). И это через 7-мь (!) лет после присвоения оркестру имени Андреева.
Стоит заметить, что в то время, как чиновники Ленинграда, преследуя своей целью навязать оркестру имя его основателя В. Андреева, В. Кацан не в счет, в Москве происходит прямо противоположенное. Приведу документ, посланный из Управления музыкального радиовещания от 14 мая 1954 года:
«Уважаемый товарищ Зарайский!
12.5. в 12 ч. 20 мин. по радио передавался музыкальный очерк «Русская балалайка» <…>. В передаче совершенно правильно сказано, что организатором Государственного народного оркестра, который работает сейчас в Москве, - явился Н.П. Осипов. Этот оркестр вырос из коллектива, который был на радио в годы войны под управлением Н. Осипова. Все это – факт. Н. Осипов давно умер, брат его тяжело болен и не работает уже в этом оркестре <…>.
Начальник отдела русской народной песни: И. Хубова». (См. мою книгу, стр. 322 «Очерки по истории русского народного оркестра», она есть в интернете).
То есть, налицо попытка разделить полностью укомплектованный оркестр на два, заявив, что оркестр Н. Осипова, это совершенно новый оркестр.
Для чего я все это говорю? Приезд оркестра им. Андреева в Москву 17 октября 2023 года всколыхнул историю возникновения этого коллектива. Нет, чтобы просто объявить оркестр имени Андреева, так руководство оркестра, рецензенты, ведущая концерта неизменно подчеркивали принадлежность оркестра к тому событию, случившемуся в 1888 году, свидетельством чему служит настойчивое утверждение, что оркестр отмечает этим концертом 135 - летний юбилей. А на самом деле, это фейк, выражаясь по-современному. И таких фейков в истории русского народного оркестра предостаточно, потому необходимо проведение операции «анти фейк». Если Д. Д. Хохлов не знает истории своего оркестра, то его надо пожалеть, ну а если знает, то… дважды пожалеть.
К вопросу о званиях
Я полностью даю отчет себе в том, что буду писать об этом в пустоту, но кто-то же должен об этом безобразии писать. И писать буду только о народниках – народных артистах. Как-то в разговоре с Народным артистом России В. А. Понькиным я сказал ему о существовании моей партитуры «Каприччио на цыганские темы» С. Рахманинова для русского народного оркестра, при этом я заметил, что Народный артист России В. Гусев не стал играть эту партитуру, сказав, что если бы подсократить медленный раздел, то он бы взялся за исполнение.
Дело в том, что это произведение состоит из двух частей – медленной и быстрой в таком соотношении по времени – 10 и 7 минут (цифры даю условно). На это Понькин тут же отреагировал: «Оно и понятно, он не представляет, как он будет исполнять столько медленной музыки. Быструю – пожалуйста, сколько угодно. К чести В. Гусева, он не стал уродовать музыку С. Рахманинова».
Зато другой Народный артист А. Бардин отличился оригинальностью. Он, наоборот, медленную музыку всю исполнил без купюр, а с быстрой совершил немыслимое. Она начинается с умеренного темпа, постепенно убыстряясь с каждым новым разделом, и таких убыстрений автор требует13(!). В конце это звучит как вихрь. Что же делает дирижер? Никогда не догадаетесь. Он начинает с предельного темпа и им же заканчивает, «купируя» время, потраченное на быструю часть. И это несмотря на прямое указание автора и требования жанра цыганской пляски, которая строится на постепенном убыстрении темпа. А что? Нам Рахманинов не указ. Я же народный артист, мне можно. Спешу добавить, что Толя Бардин был моим другом, но истина дороже.
М. Равель, оказывается, тоже не указ. Например, Народный артист России В. Андропов свой юбилей начал с «Болеро» М. Равеля, которое прекратилось через от силы 5 мин., с надлежащей кодой. У меня есть диск с записью «Болеро» под упр. самого М. Равеля, где ясно указано, что «Болеро» идет 16 мин. А что? Мне можно, я же народный артист. Не стану увеличивать число подобных примеров – проблема ясна. Убежден, что на подобные вольности не пойдет ни один симфонический дирижер.
А вот что «творит» Народный артист России, подчеркивающий постоянно, что он именно симфонический дирижер. Но по порядку. Речь пойдет о Д. Хохлове. Окончив Ленинградскую консерваторию по хоровому дирижированию, он мгновенно меняет профиль и поступает в Московскую консерваторию по оперно-симфоническому дирижирования. После этого он по несколько лет работает в двух ленинградских оркестрах, затем уезжает в казахскую ССР. После этого два года работы за рубежом (в Монголии), и возвращается в Ленинград, где его никто не ждет. Тогда ему предлагают временно устроиться в Русский Народный оркестр им. В. Андреева Ленинградского радиокомитета.
Сразу же в моей памяти всплывает карьера другого симфонического дирижера, Виктора Смирнова. После окончания Московской консерватории он так же мыкался по различным симфоническим оркестрам. В четвертом случае он «успокоился» на должности старшего преподавателя оперного класса Московской консерватории. И тут (о, радость!) положение спасает друг Дмитрий Осипов. Он организует дело так, что основателя народного оркестра Всесоюзного радио, Заслуженного артиста РСФСР П. И. Алексеева увольняют и на его место ставят В. Смирнова. Дело происходило в 1951 году. В 1954 году умирает Д. Осипов, руководство Госоркестром «по наследству» переходит к В. Смирнову, который теперь руководит обоими оркестрами – и Госоркестром, и оркестром Радиокомитета. И тут у него созревает гениальный план – что, если объединить оба оркестра в один. Ведь легче для него будет намного удобнее, не надо будет разрываться между репетициями. В оркестре об этом узнают и требуют от него уволиться, что он и вынужден был сделать.
Осиповско-Смирновская эпоха для Госоркестра закончилась в 1960 году. Из письма П. И. Алексеева: «Очень добросовестно играл под моим управлением Государственный русский оркестр (им. Н. Осипова?), с которым у меня возникли приличные отношения, вопреки настроению В. Смирнова, едва сдерживающего кипящую злость. Он весьма ощутимо теряет почву под ногами. Его дутый авторитет в коллективе упал». (Ф. 695, ОП. 2, ЕД. ХР. 91, ЛИСТ. 26)
Как завершилась его дирижерская карьера? Очень просто, - когда возник вопрос о присуждении ему звания заслуженного артиста РСФСР, весь оркестр единогласно проголосовал против, поэтому он был вынужден уволиться и перейти на педагогическую работу. Это все к вопросу о званиях.
Возвращаюсь к Д. Хохлову. Итак, он становится во главе русского народного оркестра, но мечта не отпускает, все-таки хочется дирижировать симфоническим оркестром. И тут у него возникает гениальная идея, а что, если сделать русский народный оркестр как бы наполовину симфоническим. С этой целью группа баянов сокращается до двух инструментов, а вместо них вводится кларнет и фагот. Кроме того, в целом ряде случаев используется почти полная группа медных духовых из симфонического оркестра. Как жалко, что нельзя домровую группу заменить на смычковую, так ведь не поймут.
Не хватает только звания, но заслуженный артист для этой цели не подходит, необходимо получение звания Народного артиста России, потому что Ф. Шаляпин сразу стал им. Перед войной Н. Осипов много суетился вокруг этого вопроса, но так и не добился. Попробую-ка я это сделать. И тут в голову пришла ему гениальная идея: «У меня в оркестре играет гуслярша Сорокина, то бишь, теперь Лаптева. Так вот, у нее муж – Народный артист России Лаптев, советник по культуре президента В.В. Путина. А что, если я подам прошение на присвоение заслуженной артистки Лаптевой звание Народной артистки России, а вместе с ней и на присвоение Народного артиста мне? Президент ведь подпишет. Так и случилось, минуя промежуточное звание, а также всякие там голосования в оркестре, отзывы в прессе…Тихо и надежно. Так мечта о симфоническом дирижировании вполне закономерно трансформировалась в мечту о получении звания Народного артиста. Мне кажется, что этим двум «симфоническим» дирижерам, которые по сути являются дирижерами-народниками, я могу вполне противопоставить двух настоящих симфонических дирижеров (без кавычек) – В. Федосеева и В.А. Понькина, которые вышли из народников, но давно уже плодотворно трудятся как симфонические дирижеры.
Теперь, пожалуй, пора перейти к главной теме данного раздела. Ей Богу, мне непонятен чисто советский, армейский метод определения заслуг в сфере искусства – это заслуженный, народный, затем то же самое в рамках одной республики, входящей в СССР, затем в Россию и т.п. Во всех республиках СССР и странах «народной демократии» это было введено сверху. Последние, правда, отказались от этого после распада СССР. Повторяю, это чисто армейский принцип, и если в армии он необходим, то в сфере искусства он губителен, здесь сработал принцип «разделяй и властвуй». И точно, в нашей повседневной жизни существует каста неприкасаемых в лице заслуженных, народных и т.п. И что всего печальнее – многие жаждут получить это звание, при этом не брезгуя никакими способами, потому что это путь к успеху. В результате мы имеем дело с человеком – званием, не имеющим фамилии. И тут я подхожу к главному в своих претензиях – мерилом успеха должно быть не звание, а фамилия данного лица.
Фамилия дает все плюсы и минусы этого лица, и тогда, не пользуясь поддержкой в виде звания, человек вынужден работать на плюсы в своем деле, попутно устраняя минусы. Так устроен весь остальной мир, и крайне важно осознавать, что самым разумным мерилом достоинств и недостатков является имя человека.
Для власти это весьма неудобно, что значит имя человека? Должен быть какой-то объективный критерий, и в качестве объективного критерия здесь и выступает звание. Предположим, что оперный артист обеспечил себе звание Народного артиста. Вслед за этим ему автоматически идет профессура, а какой он профессор, если как-то научился петь, но не знает, как учить. Звание развивает вседозволенность. Я, например, сильно сомневаюсь, стал бы В. Андропов выдавать за «Болеро» М. Равеля тот жалкий отрывок из него, который он представил публике, не имея звания. Он был бы обеспокоен за создание своей репутации. Или взять чудачества Д. Хохлова, правда, мне сказали, что питерцы давно не реагируют на его деятельность, так что ему все равно, что о нем думают. Он ведь Народный артист и живет в вымышленном им самим мире.
Двадцать пять минут ни о чем
Как-то, роясь в интернете, я набрел на лекцию М. И. Имханицкого под названием «Открытие древней домры», где автор с порога заявил: «У меня написано 386 работ». Интересно было бы понаблюдать, как он их пересчитывает. Мой отзыв будет предельно кратким – как он открыл древнюю домру, так я закрою её несколькими вопросами. 1) Сколько струн имела древняя домра? 2) Каков их строй? 3) Правда ли, что при игре использовался прием тремоло? И, наконец, последний вопрос, который почему-то никого не интересует – почему название русской домры почти тождественно названию казахской, шире среднеазиатской домбры?
В заключение несколько отзывов от читателей. 1) «Спасибо герру академику за пересказ своих трудов. Вывод простой – не умеет, читая, сопоставлять информацию. Увы, имена исследователей «сыплются аки алмазная гора»! .... Пиар-акция. 2) «Да-а-а-а-а …. Зато этот словесный водопад зафиксирован. Не постыдились выставить. Сам-то он это видел?» и, наконец, отзыв Д. С. Лихачева: «У того, кто много говорит, (я бы добавил – и много пишет – Б.Т.) нет времени думать». А впрочем, я зря критикую Михаила Иосифовича, он ведь Заслуженный деятель искусств России, академик, доктор искусствоведения, профессор, так что моя критика для него как горох об стенку.
О преподавании инструментовки
Я стал преподавать инструментовку с 1962г., когда директор Барнаульского музыкального училища П.П. Спирин вызвал меня и сказал: «Возьмешь инструментовку, все отказываются» я взял.
Надо сказать, что до того инструментовку у народников вел педагог, музыкант – любитель по профессии бухгалтер. Я тут же уселся изучать «Основы оркестровки» Н.А. Римского – Корсакова и за пару месяцев усвоил их содержание, глубина которых раскрывалась постепенно с течением времени.
Поступив в 1964г. на первый курс теоретиком в ГМПИ им. Гнесиных я вознамерился подучиться инструментовке для русского народного оркестра у профессора Ю.Н. Шишакова. Придя к нему в класс, я объяснил цель своего визита. Он задал мне несколько задач из своего учебника. Приходя к нему на уроки, я никогда не захватывал его с занятиями с другими студентами – народниками, всегда он что-то писал за столом. Он похвалил мои работы, приговаривая: «Ну голосоведение у вас идеальное». Так продолжалось вплоть до первой сессии. В это время стало известно, что вскоре будет исполнение Концерта для скрипки с народным оркестром Ю. Шишакова. После исполнения Концерта Ю.Н. стал допытываться у меня понравилась ли мне музыка. Меня музыка ничуть не впечатлила, но я решил отыграться на солисте – скрипаче. Ю. Н. вспылил: «Да вы что? Это же Гертович, у него отец концертмейстер группы контрабасов в… (тут он назвал какой-то известный оркестр)». Но следующий урок не состоялся, потому что, Ю. Н. сослался на занятость и посоветовал мне обратиться за помощью к А. Д. Польшиной. Я знал по многочисленным отзывам студентов о том, что такое Польшина и на этом мой поход за знаниями закончился.
Надо сказать, к чести Ю.Н. что занимался он только со мной. Я был свидетелем того, как он принимал зачет. Ребята гурьбой заходили в класс, Ю.Н. брал в руки партитуру, быстро пробегал ее глазами и ставил 4. Студенты позже говорили мне, что они приносили партитуры, написанные кем попало. Это свидетельствовало о том, что никаких уроков он не проводил. Впрочем, это не помешало ему написать превосходный учебник по инструментовке для русского народного оркестра.
С третьего курса у нас (музыковедов) начались уроки по инструментовке для симфонического оркестра. Я попал к своему научному руководителю по специальности доценту Ф.Е. Витачеку. Конечно, я был готов к такому уровню преподавания, поэтому работа шла быстро. Через год после занятий Фабий Евгеньевич сказал: «Все, идем на экзамен». И я сдал экзамен на отлично, занимаясь год вместо двух. Сравнительно недавно я узнал, что Ф.Е. окончил Московскую консерваторию за два года, так что для него это сущий пустяк.
Для чего это я все рассказываю? Для того, чтобы просветить музыкантов мыслью о том, что для овладения инструментовкой требуется основательная теоретическая подготовка в области гармонии, полифонии, анализа форм, инструментоведения. Но исполнительные специальности не могут этим заниматься основательно. Эти знания необходимы аранжировщику, но такой специальности в учебных заведениях не существует. Так что, где-то на пятом году преподавания инструментовки я понял, насколько мудро поступал Ю.Н. Шишаков. И хотя я не мог поступать так же, как он, все же пытался как-то учить студентов, сознавая всю бесперспективность своих уроков.
А как, например, народники оркеструют? У них принято говорить: «А мы это играли!». Как будто факт исполнение покрывает все недочеты. В тоже время эти недочеты способно уловить только опытное ухо, ведь оркестр же играет, значит все звучит, а публика все схавает.
А вообще я, будь моя воля, учредил бы в учебных заведениях (высших) специальность аранжировщика. Ведь это походит на работу переводчика, при которой необходимо знать оба языка – с которого осуществляется перевод и на который делается перевод. Кроме основ «Оркестровки» Н.А. Римского - Корсакова студенты бы изучали учебники С. Василенко, работы А. Веприка, С. Горчакова и др. они бы основательно изучали курсы гармонии, полифонии (помнится мы в институте им. Гнесиных писали 12 – голосные мотеты), анализ форм, инструментоведение – да мало ли еще можно включить предметов в учебный план? Всем этим я и занимался во время учебы и мог бы вполне окончить вуз по специальности аранжировщика.
Отчего народники не хотят читать?
Да от того, что не считают собственную историю интересной. В ней все так предсказуемо и понятно без лишних слов. Она безупречна во всех смыслах. В ней нужно уяснить только три установки: 1) все начал В.В. Андреев, 2) продолжил и развил Н.П. Осипов, 3) будущее покажет. Правда, нам тут подсовывают всяких там Алексеевых и иже с ними, но на это не стоит обращать нашего драгоценного внимания. А зачем читать, когда все ясно – мы неуклонно движемся к новым победам коммунизма, который не за горами.
Когда в начале 90-х годов появился журнал «Народник» выяснилось, что народник не читатель, народник – писатель. Правда, творчество народников оказалось преобладающим в буклетно - банкетном жанре с примесью некроложного.
Я тогда работал в Электростальском музыкальном училище. Как-то к нам на гос. Экзамены приехал профессор РАМ им. Гнесиных В. Чунин. После экзамена за рюмкой чая разговорились. Виктор Семенович, узнав, что я музыковед плюс народник попросил меня написать статью в подготавливаемый им сборник Академии. Подумав немного, я согласился и написал статью об участии Великорусского оркестра в исполнении IV симфонии П. Чайковского. Статья вышла и таким образом В. Петров узнал, что я нахожусь совсем рядом, и что меня можно привлечь к работе в журнале. Первой поступила просьба прокомментировать «Жизнеописание» Н. Фомина, что я и сделал, вызвав волну негодования среди народников. Не уверен, что все читали мои статьи на эту тему, скорее всего происходило следующее. В курилке: «Ты слышал, что некто Тарасов вылил ушат грязи на Андреева? Он написал, что Андреев не знал нот» - «Да эти борзописцы кого хочешь оболгут». Им и невдомек, что я писал со слов Н. Фомина, бывшего другом и соратником Андреева на протяжении 30-ти лет. Но такие аргументы в курилке не в почете – во всем виноват Тарасов.
Вторая причина, по которой народники не любят читать заключается в том, что они не хотят слышать правды о своей истории. Один знатный народник кричал мне в трубку: «Да кому нужна твоя правда?». Это он кричал после моих материалов об Н.П. Осипове, я тогда изумился его проницательности. Я-то горбатился в архивах добывая правдивые сведенья, а оказывается, он наперед уже знал, что это правда.
Но, как любит выражаться один мой знакомый, не так все однозначно. Когда Андрей Александрович Горбачев (заведующий кафедрой струнных народных инструментов) поставил на голосовании вопрос о присуждении мне звания почетного профессора РАМ им. Гнесиных, то вся кафедра единогласно проголосовала за. А когда я сказал об этом Валерию Петрову (автору «Народника»), то он воскликнул «Это революция! Ты бы послушал их что они говорили о тебе лет 10 назад». Отсюда и вопрос, неужели прочитали?
Свет и тени слушания музыки
И начну я с собственного скромного опыта. Как-то однажды (на втором курсе музыкального училища) я купил на рынке в магазине уцененных товаров пластинку с записью Второй симфонии Брамса. Оркестром Ленгосфилармонии дирижировал Курт Зандерлинг. Пришел домой, послушал всю симфонию, и естественно, ничего не понял. И тут передо мной встал вопрос – быть или не быть музыкантом? В отчаянии, без всякой надежды я начал переслушивать симфонию раз, другой, и тут что-то начало проявляться, как в ванночке с проявителем фотоснимков – сначала темные места, затем те, что посветлее, и так далее, до тех пор, пока не «проработалась» вся картина в целом. Я испытывал наслаждение от слушанья уже знакомой музыки и довел ее знание до такого уровня, что смог спеть всю симфонию наизусть, по мелодическим голосам, сейчас я уже на такое не способен. Главный вывод тогда гласил: оказывается, теперь мне будет доступна для понимания (иначе говоря – любви) любая классическая музыка. Единственное условие для этого – ее надо просто слушать.
Но слушать надо не просто, а в одиночестве и несколько раз, и лучше в разные дни. Не секрет, что нынешние уроки слушания музыки предполагают одноразовое прослушивание всей группой. Такие прослушиванья нельзя не признать вредными. Вред же заключается в том, что учащийся после такого «прослушивания» уходит с урока в полной уверенности, что он эту музыку знает, так как он ее один раз слушал.
Когда я заочно учился на теоретическом отделении училища им. Гнесиных, то мне казалось, что музыковед должен знать как можно больше музыки. Он должен ее слушать так же часто, как студент – инструменталист должен заниматься на своем инструменте. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что за три года (до поступления в институт) я прослушал 10 опер Н.А. Римского – Корсакова и 5 опер П.И. Чайковского. При этом мне вполне хватало прослушать несколько тактов, чтобы определить, какая это опера. Сказанное относилось не только к операм, мне было любопытно, например, какая музыка в Первой симфонии Балакирева, и я принимался за ее изучение. А Вторая? Так же было интересно.
Курс оперной драматургии нам читал профессор Михаил Самойлович Пекелис, он был потрясающе осведомлен обо всем, что касалось оперы. В память врезалось его изумление: «Как?! Вы не знаете «Весталку»?! (Спонтини – Б.Т)». Этого он не мог понять. М.С любил иногда задавать такие каверзные вопросы как, например: «В какой русской опере находится самый большой вокальный ансамбль?». Я знал ответ на этот вопрос, но решил подождать. Желающих не обнаружилось. И тогда я решился поднять руку. «Пожалуй, - начал я неуверенно, — это децимет с хором из первого действия оперы Чайковского “Чародейка”». «Совершенно точно» - сказал М.С.. С тех пор он в подобных ситуациях выразительно посматривал в мою сторону.
Не устану повторять: музыковеды, слушайте музыку с нотами в руках, просто слушайте, ничего не анализируя, мозг сам все это организует. Это как раз тот случай, когда количество переходит в качество. И помните, что осваивать музыку следует в юношеском возрасте (так она лучше усваивается), потому, что позже, когда вы будете работать музыковедами, у вас не будет ни времени, ни желания это делать.
Хотел было поставить точку, но не смог удержаться и поэтому приведу хотя бы один пример. В одном из музыкальных училищ (не буду указывать в каком потому, что уверен, что это могло происходить в любом училище), где я работал ко мне подходит преподаватель теоретического отделения и спрашивает, что это за музыка? После этого играет тему струнных из самого начала медленной третьей части Второй симфонии Рахманинова. Я отвечаю ей. Она говорит, что они на заседании отдела не могли определить, поэтому и обратилась ко мне, сказав, что кто-то (она назвала кто) сказал, что это какая-то попса.
Что это означает? А означает это то, что педагоги где-то слышали эту музыку, но не смогли определить ее. Так же это означает, что они возможно “проходили” (слово то какое говорящее) ее во время своей учебы, прослушав один раз. Но сказано же, что мы ленивы и не любопытны. Ну ладно бы это была какая нибудь симфония Ляпунова, а это ведь сам Рахманинов!
P.S. Как то в недавнем разговоре с моим старинным приятелем Владимиром Григорьевичем Пешняком, я рассказал ему о том, как я слушал 2-ю симфонию Брамса. Он тут же мне сказал, что точно так же он слушал девятую симфонию Бетховена, будучи на первом курсе Иркутского музыкального училища. С В.Г. Пешняком мы вместе открывали Алтайский институт культуры в 1975 году, а позднее, волею судеб, оказались в Москве. Докладываю о результатах, вытекающих из всего этого: В.Г. Пешняк — заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов, профессор РАМ им. Гнесиных, а я — почетный профессор той же Академии. Молодежь, мотайте на ус!
Возвращаясь к вопросу о составе русского народного оркестра
Предлагаю народникам вторично прислушаться к советам, идущим от специалиста по оркестроведению. Впервые я обнародовал законы оркестрового строительства тридцать лет назад, в 1993г. Напомню их.
1). На оркестровом инструменте должны быть полностью решены проблемы хроматизации и темперации его звукоряда.
2). Основные инструменты оркестра образуют группы, которые формируются на условиях представительства каждого тембра на всех участках оркестрового диапазона.
3). Количество групп не превышает четырех.
4). Совокупность отношений между группами образует определенную функциональную иерархию, согласно которой выделяется главная группа, две контрастирующие.
5). Оркестр представляет собой систему, тяготеющую к высшей целесообразности и экономичности функционирования своих элементов.
6). Трудно переоценить стабильность состава оркестра.
7). Оркестр входит в историю музыки со своим репертуаром.
Появление этой статьи под названием «О предпосылках формирования состава русского народного оркестра» было вызвано анализом полемики, случившейся в конце 70-х, в начале 80-х годов по нашей теме.
Напомню, что я писал в то время: «Если суммировать все высказанные предложения о расширении состава оркестра, то обнаружится, сто он нуждается в обеих духовых группах симфонического оркестра, некоторых инструментах среднеазиатских и закавказских народов, в нем не хватает смычковых инструментов (как скрипок, так и гудков), далее было предложено узаконить постоянное присутствие народных духовых инструментов, ввести инструменты ВИА». (См. «Очерки» с.6)
Народники почему-то напрочь забывают, (а точнее не знают) что русская народная музыка преимущественно вокально-хоровая и доля инструментального в ней минимальна. Можно говорить лишь о балалайке (для плясовых мотивов) и гуслях звончатых для аккомпанемента голосу. Оба эти инструмента не подходят для строительства оркестра. Мне возразят – а владимирские рожки и прочие деревянные духовые инструменты? Отвечу – они пригодны лишь для ансамблевого исполнения, в оркестре они так и не прижились, не смотря на пропаганду их в оркестре им. Н.П. Осипова. Пропаганда это слабеющая, в настоящее время в этом оркестре как утопающий за соломинку держатся за несколько владимирских рожков, но не один из оркестров ими не пользуется. За это их следует похвалить, ибо это говорит о том, что они против фальшивого звучания в своих оркестрах, выполняя тем самым один из важнейших заветов В.В. Андреева.
Следует заметить, что не я вывел законы оркестрового строительства, я только зафиксировал опыт этого строительства. Согласно этим законам В.В. Андреев и Н.П. Фомин сделали невероятное – построили Великорусский оркестр фактически из одной группы. В самом деле, что собой представляет Великорусский оркестр как не одну группу (домровую), разделенную в результате (по удачному определению В. Петрова) функционального размежевания, где балалайки басы, контрабасы и альты (поделенные на альт и секунду) содержат в себе все признаки домр – строй и игра медиатором, а от балалаек у них только форма корпуса? Даже гусли были не народного типа, а сделанные Н.П. Фоминым с фортепианной клавиатурой. В результате в Великорусском оркестре присутствует лишь один народный инструмент – балалайка прима.
А что такое оркестровые гармоники? В 1936г мастер Фром сделал по заказу К.С. Алексеева группу оркестровых гармоник, которые в виде квинтета были предназначены для оркестра 4-х струнных любимовских домр. Инструменты этого квинтета никак нельзя было назвать народными, но они оказались востребованы в 1945г., когда П.И. Алексеев возглавил русский народный оркестр Всесоюзного радио. До этого он пробовал разные типы гармоник (квартет монофонов, концертину и баян), как бы проверяя их в деле.
Я не знаю, какая была клавиатура (или клавиатуры) на баяне, впервые сделанная Стерлиговым, но очевидно к 1936г. или к 1945г. была принята клавиатура бельгийской системы, названная ленинградцами московской. Это проблема стучалась в дверь для строительства оптимальной контрастирующей группы в оркестре. В оркестре должно быть две контрастирующие группы. Одна имеющаяся группа, если считать балалаечную отдельной группой, мало контрастирует с основной (домровой), поэтому желательна группа с более сильным контрастом, ею и стала группа гармоник. Но и она оказалась недостаточно контрастной, поскольку состояла из одного тембра. Так возникли дополнительные флейта и гобой. Почему именно эти тембры оказались востребованы? Да потому, что кларнет и фагот дают наибольшее приближение к тембру гармоник, нежели гобой и флейта.
В последнее время участились случаи включения в состав оркестра двух труб, которые необходимы в переложениях классической музыки, в которой нередки трубные сигналы. Это делается для того, чтобы эти сигналы не звучали карикатурно. В сумме это контрастирующая группа обладает четырьмя тембрами, как и в симфоническом оркестре. Полагаю, что на этом надо остановиться, по тому, что состав русского народного оркестра, как и любого иного оркестра должен быть стабильным и не зависеть от отдельных руководителей оркестров. Скажите, что делать руководителю оркестра им. В. Андреева после Д. Хохлова? Ведь львиная часть репертуара этого оркестра рассчитана на его «оригинальный» состав. В искусстве тоже существуют законы, нарушить которые нельзя без последствий.
Н.П. Осипов и П.И. Алексеев
Не отпускает меня эта тема, тем более что в предыдущих работах я не все сказал по этой теме. И решил я на этот раз сопоставить деяние этих двух людей как бы в одно время. Кроме того, должен сразу же предупредить читателя о том, что я не буду, во избежание недоразумений касаться здесь деятельности Н.П. Осипова как солиста – балалаечника, то есть, котлеты – отдельно, мухи – отдельно. И еще, в дальнейшем изложении я буду ссылаться на свою книгу «Очерки по истории русского народного оркестра», изданную в 2018г. и переизданную в 2022г. (Издательство Пробел – 2000).
Итак, с 1908г. по 1919г. П.И. Алексеев домрист (малая домра) в Великорусском оркестре В.В. Андреева. С 1913г. по 1917г. он совмещает работу с учебой на Высших музыкальных курсах В.Б. Поллака (специальность – теория композиции). Раньше я ошибочно считал, что П.И. Алексеев был в течении нескольких лет концертмейстером оркестра. на самом же деле им был В.В. Кацан, а Алексеев, по-видимому, был помощником концертмейстера («Очерки» с.258).
А что в это время делал Н.П. Осипов? Он учился в Училище правоведения – это факт. Тем не менее он использует версию о том, что он учится на скрипке в Петербургской консерватории у знаменитого профессора Л. Ауэра, окончил ее с золотой медалью, о чем до сих пор можно прочитать в википедии, правда с заменой Ауэра на Крюгера. Кроме того, Н.П. Осипов утверждал, что он окончил Петербургский университет как юрист. В то же время он зарекомендовал себя в роли крупье во Владимирском игорном доме в Петербурге. Почему я доверяю этому свидетельству А. Андрюхина («Очерки» с. 391)? По тому, что это естественно вписывается в облик Н.П. Осипова, как игрока по жизни. Я, например, совершенно не поверил, если бы сказали такое о П.И. Алексееве.
В 1919 г. П.И. Алексеев переезжает вместе с группой народников Великорусского оркестра в Москву. Он едет с ясно осознанной целью – спасти Андреевское дело, поскольку в Москве уже существует Государственный оркестр струнных инструментов под руководством Г.П. Любимого. Он понимает, что с переездом в столицу правительства культурное строительство может пойти по иному пути, тем более что Москва за 30 лет не приняла Андреевскую реформу.
Через три года туда же устремляется Н.П. Осипов, но цель у него противоположенная – карьера для него все (А. Андрюхин). И он придумывает гениальную идею – ведь он же игрок. Он «теряет» паспорт, а в новом увеличивает свой возраст на пять лет, якобы он родился не в 1901, а в 1896г.. Что это ему дает? Теперь он может вполне уверенно говорить, что он окончил Петербургскую консерваторию по классу скрипки у профессора Л. Ауэра и юридический факультет Петербургского факультета. В приличном обществе не принято для подтверждения своих слов показывать диплом, а общаться он будет только с людьми из приличного общества.
Так прошло шесть лет, совершенно пустых, поскольку не удавалась поймать счастливый случай, и вот наконец он появился. Удалось выкрасть ноты написанного для Б. Трояновского Концерта для балалайки с симфоническим оркестром («Очерки» с. 222 – 244). Как пригодились домашние заготовки! С.Н. Василенко всему поверил и «переключился» на Н.П. Осипова. Премьера Концерта наделала много шума, Н.П. Осипова тут же приглашают преподавать в музыкальном училище имени Октябрьской революции.
А что в это время делает П.И. Алексеев? Он занят организацией самодеятельных кружков, в которых культивируется Великорусская модель оркестра. В 1929г. он добивается равного отношения властей к обоим типам оркестров, в следующем году число оркестрантов увеличено до 30-ти человек. В 1924г. оркестр стал выступать по радио, а в 1930г. П.И. Алексеев выигрывает конкурс на руководителя оркестра Всесоюзного радиокомитета. Оркестр Г.П. Любимого потерпел неудачу. Так осуществилась победа врага на его территории.
В 1936 г. оркестр П.И. Алексеева был переведен в систему Комитета по делам искусств, что позволило увеличить его состав до 70 – 80 исполнителей. В 1934г. П.И. Алексеев был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, что позволяло играть довольно сложные сочинения из русской классики, созданных для симфонического оркестра. расширяется список солистов, как певцов, так и инструменталистов. Оба наши героя движутся к пику своей карьеры.
В 1939 г. в Москве проходит смотр исполнителей на народных инструментах, на которых первые места, среди русских народных инструментах делятся между Н.П. Осиповым и П.И. Нечепоренко. Н.П. Осипов расценивает эту победу как поражение. Как?! Его сравнили с каким то юношей моложе на 15 лет, его, который к этому времени добивался звания народного артиста РСФСР, минуя звания заслуженного артиста. С этим надо было что-то делать.
И тут приходит удача. Дело в том, что в мае 1939г. власти решили помочь материально семье Н.С. Голованова, назначив его художественным руководителем Государственного духового оркестра и Государственного оркестра народных инструментов СССР, а П.И. Алексеева его заместителем. Н.С. Голованов выполнял свои обязанности до 1939г. а затем был переведен на другую работу, в результате должность худрука повисла в бюрократических раскладах и оставалась вакантной. Туда и устремился Н.П. Осипов. Это было идеальное место для него – он будет художественно руководить, а дирижировать пусть будут другие. П.И. Алексеев сразу же подал в отставку, оскорбленный таким поворотам дела.
В «Очерках» я был введен в заблуждение П.И. Алексеевым сообщением о провале оперы Николая Аркаса «Катерина» под руководством якобы Н.П. Осипова. На самом же деле руководил оркестром брат Николая - Дмитрий, который к тому времени был дипломированным симфоническим дирижером, хотя по основной специальности он был пианистом. Дмитрий и занялся дирижированием с Николаем. Естественно Н.П. Осипов стал художественным руководителем с подачи композиторов С.Н. Василенко и М.М. Черемухина.
Вообще надо сказать, Н.П. Осипов как дирижер представляет собой тайну за семью печатями, но он отметился в Курсах по повышению квалификации при Московской консерватории по дирижерской специальности. Остались две – три записи на пластинках, по которым нельзя судить сколько ни будь о его дирижировании, потому, что это аккомпанемент к песням и романсам.
Интересно проследить за реакцией нашей исторической науки за историей с увольнением П.И. Алексеева. Исследователи не желают ничего писать об этом, поэтому придумали такую цепочку событий: П.И. Алексеев доработал в оркестре до 1939г., с 1939г. его сменил Н.С. Голованов, а в 1940г. его, в свою очередь сменил Н.П. Осипов. Это прекрасный пример тактики умолчания, которой они так любят пользоваться. Даю характеристику данную П.И. Алексеевым Н.П. Осипову: «(Осипов) не имел ни знаний, ни опыта, никогда не работал в музыкальной художественной самодеятельности, толком не знал структуру оркестра и совсем не знал репертуара, никогда не выступал в качестве дирижера».
А чем занят в это время П.И. Алексеев? Драму жизни он перенес трудясь. В предвоенные и военные годы преподает в Московской консерватории на факультете военных дирижеров (до войны), с началом войны он в г. Темникове организует из детей, эвакуированных туда оркестр народных инструментов, хор и танцевальную группу. Затем в 1942г. восстанавливает в Саранске Мордовский государственный ансамбль песни и пляски. В 1943г., вернувшись в Москву руководит самодеятельностью Трудовых резервов и в 1944г. готовит Горьковский государственный ансамбль песни и пляски к выступлению в Москве.
Н.П. Осипов же во время войны «художественно» руководит оркестром. Но здесь его подстерегает неудача. В.С. Смирнов, на которого он так рассчитывал, занят дирижером в оркестре под руководством Л. Штейнберга, который обслуживает солдат на фронте, а брат Дмитрий находится в эвакуации как преподаватель по фортепиано Московской консерватории. Выручает Н.С. Голованов, который нуждается в работе на стороне.
9 мая 1945 года вся страна празднует день победы, а наш герой умирает. Посмертная слава настигла Н.П. Осипова в 1946г. благодаря усилиям его вдовы, которая 9 мая 1946г. нарядившись в траурные одежды, отправилась к вокалистам Народным артистам СССР с просьбой ходатайствовать перед властями о присвоении оркестру имени Н.П. Осипова. Это ходатайство было удовлетворено без всяких запросов к оркестру и общественности. Причина якобы в связи с 50-ти летием со дня рождения, хотя уж кто – кто, а вдова знала, что Н.П. Осипову исполнилось 45 лет. Как видим, даже здесь не обошлось без лжи.
Теперь о П.И. Алексееве. В декабре 1945г. он становится дирижером вновь созданного русского народного оркестра ВРК (оркестра радио), в котором, во-первых, устанавливает стабильный состав оркестра (он сохранился до сих пор) и закладывает основы репертуарной политики. Но тут в его судьбу вмешивается Дмитрий Осипов, возглавивший Госоркестр после смерти брата. Дело в том, что он начинает устраивать карьеру В.С. Смирнова (друга юности Н.П. Осипова), который, будучи симфоническим дирижером, после работы в трех симфонических оркестрах вынужден был перейти на преподавательскую работу в Московской консерватории. В 1951г., заручившись поддержкой властей и концертмейстера оркестра (Е. Климова) удалось уволить П.И. Алексеев, за профнепригодность(!), что я считаю актом вопиющего беззакония («Очерки» с.306 – 318).
Осиповско – смирновская эпоха, начавшееся в 1940г. окончилась полным крахом в 1960г. уже после смерти П.И. Алексеева, когда оркестр имени Н.П. Осипова, который достался «по наследству» В.С. Смирнову проголосовал за его отставку единогласно.
А что делал П.И. Алексеев после увольнения? С 1951г. он работает в ГМПИ им. Гнесиных в качестве педагога по классу домры, воспитав ряд выдающихся домристов, и как выяснилось совсем недавно, основал студенческий оркестр ГМПИ им. Гнесиных.
Пора подводить итоги, но я не буду их подводить, потому, что читателю и так все ясно. Просто в заключение немного юмора на тему, как наша историческая наука отреагировала на увольнение П.И. Алексеева. «В коллективе насчитывалось мало исполнителей, имеющих музыкальное образование, почти наполовину он состоял из бывших участников самодеятельности. Наконец, руководитель оркестра Алексеев, сыгравший очень важную роль в начальный период деятельности оркестра, не был профессиональным дирижером. Ему порой не хватало знаний, да и таланта для того, чтобы коллектив под его управлением смог в сравнительно небольшой срок приобрести свой исполнительный почерк». (Это я сейчас процитировал фрагмент из статьи М.С. Колчевой «Становление исполнительского стиля Государственного академического русского народного оркестра имени Н.П. Осипова», напечатанной в сб.: Обучение дирижированию и оркестровое исполнительство. Сборник трудов (межвузовский) ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 42. М., 1979. С. 144 (курсив мой – Б.Т.).
Стоит, пожалуй, только пояснить, что речь идет о Госоркестре эпохи 30-х годов ХХ века. Что на это сказать? А что, если я спрошу читателя, знакомы ли ему такие фамилии: А. Циркин, А. Вялцев, В.Корнеев, В. Шадрин, З. Чернышева, В. Семергеев, В. Мальцев? Как, неужели не знакомы? Так это же все профессиональные дирижеры, у которых с наличием знаний, да и талантом все нормально. Кроме того, все они выпускники ГМПИ им. Гнесиных по классу дирижирования доцента Маргариты Сергеевны Колчевой, которая как дирижер особенно ярко проявила себя в качестве руководителя оркестра русских народных инструментов заочного отделения института.
Но если говорить серьезно, то бедная Маргарита Сергеевна оказалась заложницей мифа о «гениальном» (без какого-либо вообще образования) дирижере Н.П. Осипове. И ее можно понять, ведь она пишет очерк по истории оркестра и никак не может обойти вопрос о том, почему всё-таки ушел (или «ушли») П.И. Алексеева. Понизить оценку Н.П. Осипова она не может (ведь оркестр назван его именем), значит надо понижать оценку П.И. Алексеева. И поэтому она вынуждена просто придумывать, например, то, что музыкант, пришедший из самодеятельности, заведомо не талантлив и не профессионален, или что только благодаря Н.С. Голованову «в конце 30-х годов оркестр встал в один ряд с лучшими профессиональными коллективами страны» (там же. С. 148), - что опровергает предыдущее утверждение (ибо музыкантов, пришедших из самодеятельности, было гораздо больше половины), или то, что «к сожалению, в конце 30-х годов народные песни исполняются значительно реже» (там же. С. 152). М.С. Колчева не знала, где хранятся все программы конца 30-х годов, а хранятся они в квартире-музее Н.С. Голованова (ф. 468, ед. хр. 3921, л. 13-17), и из их анализа невозможно сделать подобные выводы.
Я бы спросил доцента М.С. Колчеву, разве она не знает, что до войны не было высших учебных заведений, в которых бы обучались народники дирижированию. Это была эпоха талантов без дипломов, а после войны эпоха дипломов без таланта, что и доказывается приведенным списком студентов. А у Н.П. Осипова не было ни дирижерского, ни организаторского таланта, ни диплома.
___________________________________________________________________
Я не устану повторять, что оркестр им. Н.П. Осипова необходимо переименовать в оркестр им. П.И. Алексеева, этот Карфаген должен быть разрушен. И при этом должно быть смешно утверждать, что все уже привыкли к этому имени. А как происходило переименование Санкт-Петербурга в Петроград, затем в Ленинград, и наконец опять в Санкт-Петербург, а оркестр почему-то нельзя переименовать? Почему? Кто ни будь мне ответит на этот вопрос?
Приложение:
Письмо А. Андрюхина к С.Н. Василенко.
«Сергей Никифорович!
29 марта с. г. в 14ч. 15м. передавались Ваши воспоминания об Н. Осипове.
Интересуясь историей Государственного оркестра народных инструментов, я не мог равнодушно отнестись к Вашему выступлению на радио о “деятельности” Н. Осипова.
Никому, конечно, не возбраняется хорошим словом вспомнить умершего личного приятеля, но делать это общественным достоянием иногда приносит огромный вред.
В данный момент Государственный оркестр народных инструментов остро переживает всё то отвратительное, что принёс с собой Н. Осипов, появление которого в коллективе произошло при Вашем содействии. Н. Осипов умер два года тому назад, что с его стороны явилось единственным положительным поступком перед общественностью. Казалось бы, о нём нужно забыть. Так нет же, о нём вспоминают и хвалят, заведомо зная всю пакость, которую он развил в Государственном оркестре народных инструментов. Сопоставляя факты и проверяя документы, я пришёл к ряду выводов, которые вовсе не совпадают с Вашей оценкой деятельности Н. Осипова. Н. Осипов — фигура антиобщественная. Балалаечник он, правда, с малых лет. Перед Петербургской публикой он выступал ещё в 1909-10 годах. Но что касается окончания консерватории по классу скрипки, то это, извините, сплошное враньё.
Кто Вам поверит, что «блестящий скрипач» променяет скрипку на балалайку. Если и была у Н. Осипова попытка обратного порядка, т. е. от балалайки к скрипке, то и она окончилась полной неудачей. Н. Осипова скрипача Вы не знали, а доверять на слово или даже документу, имея в виду способности Н. Осипова, не следует. А способностей у Н. Осипова было много, которые он особенно проявил во Владимирском игорном клубе в Петрограде в роли крупье.
Балалайкой он был вынужден заниматься, и не отрицаю, что технического овладения инструментом он достиг.
Однако, в его деятельности превалировала эстрадность, дешёвый стиль, Репертуар ограничился 10-15 произведениями за всю жизнь. Русских песен он не играл и сознавался сам, что не понимает их. Его выступление на фоне симфонического оркестра — чудачество, поза.
Музыкальный уровень Н. Осипова выражается его собственной фразой: “Бетховена следовало расстрелять ещё в детстве”. Большего тут добавить нечего.
Моральный облик Н. Осипова — редкое по распущенности явление, В венок его амурных похождений включены имена крупных и влиятельных артисток, пленённых его, якобы, чрезвычайно аристократическим происхождением (недурно в наше время-то), через которых он устраивал свою карьеру.
Карьера для Осипова - всё.
Вы и те женщины помогли ему. С Вашей помощью он пришёл в Госоркестр, существовавший многие годы. Ничего он не создавал и Вы это прекрасно знаете, пришёл на готовое и буквально ничего сделать не мог. Оправдывая свой приход, Н. Осипов бессистемно ввёл попавшиеся под руки инструменты, чуждые благородному творению щипковых инструментов и устроил из дела балаган.
Получилось странное явление: симфонизированный Н. Осиповым оркестр, если это качество можно применить к свалке в общую кучу разных инструментов, не приобрёл симфонического звучания.
Дело, конечно, не в этом. Н. Осипову нужно было занять тёпленькое местечко. С присущей ему наглостью, да ещё с Вашей помощью, он добился успеха, но судьбе было угодно решить дело иначе и весьма радикально, ныне в нашем оркестре ведётся борьба со всем злом, насаждённым Н. Осиповым и чем скорее будет выкорчёвано наследие Н. Осипова, тем лучше.
Отрицательная деятельность Н. Осипова не ограничивается вышеизложенным. При его непосредственном участии упразднён Ленинградский оркестр им. В. Андреева, являющийся лучшей страницей русского искусства. Ленинградцы этого никогда не простят Н. Осипову.
В истории оркестра народных инструментов деятельность Н. Осипова является самым мрачным периодом.
Н. Осипов достоин порицания за всё им содеянное, или, в лучшем случае, полного забвения.
Я, старейший участник коллектива с 1919 года, от своего имени и от всех, стремящихся исправить положение в Государственном оркестре народных инснтрументов, выражаю Вам своё возмущение и негодование по поводу Ваших воспоминаний об Н. Осипове.
Рекомендую Вам в дальнейшем, на склоне Ваших лет, не связывать своего имени со скандальным именем Н. Осипова.
Александр Андрюхин
Москва, 30 марта 1947 г., Щипок, 9, кв. 22».
Остается только поражаться тому, как обыкновенный народник – оркестрант, переехавший вместе с П.И. Алексеевым в Москву, ответил на возникающие на эту тему вопросы правильно.
О странностях исторического самосознания народников
«Возрождение народных инструментов и их усовершенствование является безусловным завоеванием Октябрьской революции. За 23 года народные инструменты прошли громадный путь.» (152)
«Несмотря, на то, что исторически это самые старые инструменты, фактически они родились в Октябре.» (153)
Из обращения в Совет Народных Комиссаров Союза ССР тов. Землячке Р.С. от художественного руководителя Государственного оркестра народных инструментов СССР Осипова Н.П., г. Москва, 12.07.1941г.
Как видим за бортом истории остались В.В. Андреев и Б.С. Трояновский. Другими словами – все началось с Октября. Другими словами – все началось с Октября, а с кого конкретно? С Николая Петровича Осипова, отвечает Дмитрий Петрович Осипов, который, будучи на гастролях давал местным работникам печати краткие материалы по истории своего оркестра. Далее, даю материал одной из провинциальных газет, которых у меня имеется достаточное количество. «Ученик Андреева, замечательный музыкант Николай Осипов в 1919 году, создавая оркестр народных инструментов, значительно его усовершенствовал, введя в состав оркестра баяны, пополнил коллектив рожечниками»(П. Поздняков, газета «Серп и молот» от 27 октября 1960года, город Клин). Как видим, идея ушла в толщу народной жизни.
Далее речь пойдет о некрологе памяти П.И. Нечепоренко, подписанном Александром Степановичем Даниловым и опубликованном в «Народник» (№1 за 2009 год) в нем сразу же заявляется, что П.И. Нечепоренко «родоначальник (курсив мой – Б.Т) современного академического исполнительства на русских народных инструментах» сразу же возникает вопрос: как, на всех сразу?
Далее: «Мы всегда будем помнить, ценить и говорить о том, что именно П.И Нечепоренко первым (курсив мой – Б.Т) достиг тех художественных высот в исполнительстве, к которым, начиная с конца 30-х годов прошлого столетия, стали стремиться все последующие поколения исполнителей, играющие на балалайке, домре, баяне». Ответ: да, на всех сразу.
Очевидно, что теперь следует ожидать, что все началось с Фридриха Липса и Александра Цыганкова. Конечно, и до них были какие-то баянисты и домристы, но именно их следует считать пионерами в исполнительстве на народных инструментах.
А в области дирижирования народным оркестром? Здесь очевидно потребуется выбрать между В. Федосеевым и Н. Некрасовым. А кто такой П.И. Аклексеев? Не знаем, что-то знакомое, но точно не скажем, кто такой. А Андреев? Ну какой он дирижер?
Позвольте мне немного пофантазировать на эту тему по отношению к моей собственной персоне. Здесь картина более сложная, все народники делятся на две группы – первая, это те, которые не читали моих книг и вторые, которые читали. Первые из этой группы делятся в свою очередь на две. Но сначала дам оценку тем, кто не читали, и не собираются читать – с этими все ясно. Теперь о тех, кто не читал, но что-то слышал об этом. Слышал же он только негативное, например, то, что некий Тарасов вылил ушат грязи на Н.П. Осипова. Вывод – и как только земля таких носит.
Теперь о тех, кто читал. Они тоже делятся на две группы. К первой относятся те, кто внимательно прочитал и согласился с прочитанным. Вторые тоже прочитали, но высказали возмущение позиции автора, а точнее теми документами, на которые он опирался.
Интересно было бы узнать кто такой этот Тарасов? Не Олег же. Я уже давно знаю, что отношение к Н.П. Осипову является своего рода лакмусовой бумажкой, которая вообще характеризует человека. Но я здесь должен решительно заявить, что не я первый оценивал все махинации Н.П. Осипова. Это сделал один человек, и вы его не знаете. Это Петр Фомич Покромович. То, что он осуществил в 1954г. достойно восхищения и признательности. Но с последним народники явно не спешили. Кому интересно, пусть найдет очерк под названием «Рыцарь нашей науки» в моих «Очерках по истории русского народного оркестра». П.Ф. Покромович, так же, как и я, не был народником, то есть, как и я был музыковедом, а он юристом, и потом уже народником. Как говорится со стороны виднее. Я с удовольствием издал материал о нем и один из его трудов, где он разоблачил Н.П. Осипова. Так что, у меня есть предшественник яркий, талантливый и я охотно предоставляю ему первенство в сфере науки о русских народных инструментах. Осталось только пожелать молодому поколению рассмотреть написанное им.
Вообще видимо следует признать, что наука о русских народных инструментах развивается как самая отстающая область. Научная (другими словами – правдивая) история началась недавно с подачи П.Ф. Покромовича. Я в своих книгах постарался дать максимально широкую картину, пытаясь освоить большинство направлений, которая, в свою очередь требует детальной разработки. И тому пример - недавно написанная монография о В.В. Андрееве Ольги Михайловны Шабуниной. Она полностью исключает мифотворчество предыдущего периода. О.М. Шабунина окончившая аспирантуру Института истории искусств и защитившая кандидатскую диссертацию показала каким должно быть исследование о русских народных инструментах.
К оценке педагогического труда
Дополнение к моей книге «Дирижерский портрет В.И. Тарасовой (Богомоловой)»
«Сегодня прошёл концерт памяти моего дорогого учителя и дирижёра... а у меня до сих пор внутри пустота и ком в горле... с Валентиной Ивановной я погрузился в мир музыки, так сказать с двух сторон: как артист оркестра и как дирижёр. Не в обиду моим педагогам-скрипачам, но именно после уроков дирижирования я полюбил музыку всем сердцем. После знакомства с Валентиной Ивановной я понял окончательно, что музыка будет со мной навсегда. Спасибо вам за всё»
Максим Стрельченко, учился в Электростальском музыкальном колледже им. А.Н. Скрябина с 2005г. по 2009г. по классу скрипки, по дирижированию занимался у В.И. Тарасовой. Затем, окончил Академию им. Маймонида по классу скрипки и симфонического дирижирования.
«Я подпишусь под его словами». Максим Власов, учился в Электростальском музыкальном колледже им. А.Н. Скрябина с 1997г. по 2001г. по классу ударных инструментов. После окончания училища работал три года в студенческом симфоническом оркестре иллюстратором.
Без комментариев.
Воспоминания о первом директоре Барнаульского музыкального училища Петре Павловиче Спирине
Сразу же должен оговориться, почему я заменяю воспоминания об училище воспоминаниями об одном человеке. Во-первых, моих воспоминаний о Петре Павловиче (в дальнейшем – П.П) вполне хватает на статью, во-вторых, я уверен, что буду единственным человеком, который на это решится.
В самом деле, ну не писать же мне о том, как, например, по общему фортепиано у меня (понятно, что не только у меня) были сначала не помню кто, а затем Д. Северов (трубач), а позднее М. С. Калинкин (дирижер – хоровик), или о том, как у нас вела анализ дирижер – хоровик, окончившая Ленинградскую консерваторию (К. К. Наливнова), которая на первом же уроке поставила перед нами ноты 1-го фортепианного концерта П. Чайковского и заявила, что он начинается с главной партии. Когда я сказал, что это тема интродукции, а главная партия начинается тем, где Allegro, она, полистав ноты, немного призадумалась, а затем воскликнула: «Ой! И правда!».
Не хочется мне также писать о том, как мой педагог по специальности Д. Н. Волховицкий, на вопрос члена комиссии на одном из академических концертов, что я буду играть, ответил: «Он сам скажет». Расшифровываю ситуацию – он проводил время за игрой в шахматы в учительской, и поэтому не знал, что я выбрал себе для игры на зачете.
Но, спешу добавить, что мы не были в претензии к педагогическому коллективу, где-то интуитивно понимая, что все это обусловлено трудностями роста училища. Настанет время, в город приедут специалисты с высшим образованием и все наладится. Я вообще считаю, что каждый должен учиться у музыки как у самого великого педагога. Многие тогда сидели не на своем месте, а среди тех немногих кто занимал свое место вполне законно как раз и был П. П. Спирин. Теперь перехожу непосредственно к воспоминаниям.
В 1957 году я окончил Искитимскую музыкальную школу и тут перед моими родственниками встал вопрос, куда меня определить. Было решено попробовать меня на предмет поступления в год назад образовавшееся Барнаульское музыкальное училище. Приезжаю в Барнаул вместе с дядей (братом отца, который погиб на войне), идем в училище. Там мне было устроенно прослушивание. Дело в том, что об этом попросил дядя. В кабинете директора сидели: П. П. Спирин, В. П. Введенский, кто-то еще. Проверку слуха проводила Е. Ф. Зорина. Она попросила меня отвернуться и нажав клавишу, сказала: «Это нота до, а теперь называй другие». Помнится, что она нажимала ноты в разных регистрах, белые и черные клавиши, но я все говорил точно. Когда она окончила испытание, то я, повернувшись успел заметить, как она всем показала большой палец, поднятый вверх.
Опускаю процесс поступления в училище, во время учебы мы с П. П. лично не общались. По распределению я должен был ехать на работу в музыкальную школу г. Камень – на – Оби, но кто-то мне сказал, что П. П. (а не педагог по специальности) перераспределил меня в училище педагогом по классу баяна. Но я немного забежал вперед по тому, что хотелось бы сначала обратиться к воспоминаниям общего характера.
К счастью, он (П. П.) не был музыкантом. П. П. приходил на работу ежедневно в период с 6 до 7 часов утра, и уходил не скажу позже всех, но все-таки достаточно поздно. Он освоил нотную грамоту и был способен даже проверять задания по элементарной теории музыки. Он создал фонотеку и нотную библиотеку в первый же год, причем лично ездил на Всесоюзное радио договариваться, чтобы у нас была вся музыка, необходимая для курсов музлитературы. Для нотной библиотеки он привез из Москвы часть нотницы Музгиза (откуда-то узнал, что она перевозится в значительно меньшее помещение), благодаря чему в нашей библиотеке была масса редких партитур.
Идея учебы лучших выпускников только в Москве, а именно ГМПИ им. Гнесиных принадлежала П. П. Об этом он договорился с ректором ГМПИ им. Гнесиных Ю. В. Муромцевым. Договор этот не имел никакой юридической силы, но мы все давали подписку о том, что вернемся в Барнаул после учебы. На меня, правда, это не распространилось, так как я решил поступать на заочное отделение. Ровно год я преподавал специальный баян, но поскольку я в середине года перевелся на теоретический отдел училища имени Гнесиных, то с любой точки зрения я не должен был продолжать оставаться преподавателем по классу баяна. И здесь помог случай, дело в том, что в конце года уволился преподаватель по инструментовке, музыкант – любитель, по профессии бухгалтер. П. П. вызвал меня и спросил: «Возьмешь инструментовку? Преподавать некому, все отказываются». В результате я стал преподавать инструментовку ровно 60 лет назад, с 1962 года.
Как я стал аранжировщиком? Во-первых, выполняя пожелание П. П. Во-вторых, мне показалось это интересным делом. Я взял «Основы оркестровки» Н. А. Римского-Корсакова, проштудировал их и через пару летних месяцев был готов к преподаванию инструментовки. Я уверен, что если бы я отказался, то лишился бы половины содеянного мной для музыки.
Да, чуть не забыл описать как я собирался выехать в Москву. Дело в том, что по закону дипломы распределившихся на работу выпускников должны были лежать в сейфе руководителя учебного заведения. Это для того, чтобы новоиспеченный педагог не вздумал куда-нибудь удрать. И только через три года можно было отпускать его хоть на все четыре стороны, выдав диплом. Естественно, мне понадобился диплом для поступления, а тут случилось так, что мой педагог по специальности Дмитрий Николаевич Волховицкий был в августе и.о. директора, и вот он-то и встал у меня на пути. «Не поедешь в Москву, а поедешь в Новосибирск», - сказал он. Я: «Нет, в Москву…» Он: «А я говорю, что поедешь в Новосибирск». В общем, так мы стояли и препирались до тех пор, пока Дмитрий Николаевич вдруг побелел и, вытащив диплом из сейфа, со злостью бросил мне под ноги. Я спокойно взял диплом и вышел.
Почему я не подчинился Д. Н. Волховицкому? Да только по тому, что П. П. не одобрил бы такого шага от меня, это нарушило бы его желание. Тем не менее сделаю неожиданный вывод – мне повезло с педагогом по специальности, я благодарен ему за то, что он не мешал моему развитию.
Вспоминается еще один случай. П. П. кто-то сказал, что наша бухгалтерия, узнав о том, что я перевелся из ГМПИ им. Гнесиных в училище им. Гнесиных, решила, что коли я учусь второй раз в музыкальном училище, лишить меня полагающихся мне льгот заочного обучения, а именно – зарплаты на время сессии, оплаты проезда и т.п. П. П. вызвал меня и спросил, правда ли все это? Я ответил утвердительно, тогда он пошел в бухгалтерию и устроил там разнос. Не знаю, что он им говорил, но, очевидно, то, что я учусь по другой специальности. В бухгалтерии же, по-видимому, считали, что я дважды учусь музыке, не разбираясь по сути дела. Выйдя от них, он сказал мне: «Ты знаешь, не удалось вернуть тебе деньги, но больше они так не будут делать. Ручаюсь.»
П. П. распорядился, что бы была осуществлена пристройка к училищу на десять отдельных комнат, для жилья педагогов. Думаю, что сменивший его Л. С Калинкин до этого бы не додумался.
Задумываясь над тем, какой человек нам явился в лице П. П., я полагаю, что он был прежде всего государственным человеком. Что я понимаю под эти словом? Я уверен, что, если бы П. П. поставили руководить, например, сельскохозяйственным техникумом, он бы точно так же бы вникал во все детали (конечно, до известных пределов) новой для него специальности. И коли государство поручило ему это дело, то у него не было бы сетований по поводу того, что вот, мол, поручили мне неизвестно что, а ведь тот, кто его назначил на должность директора музыкального училища, был уверен, что П. П. справится. И ведь этот кто-то оказался прав. Как сказал поэт (Н. С. Тихонов): «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей.»
И еще. Он был, безусловно, коммунистом, причем честным коммунистом, придерживающимся всех заповедей строителя коммунизма. Я уверен, что имя, данное училищу, имени 40-летия Октября возникло с его подачи. И это было без каких-то показных лозунгов – дело прежде всего. В начале я отметил, что нам не повезло с некоторыми преподавателями, но это уравновешивалось тем, что у нас был такой директор.
Почему-то в г. Барнауле никто не помнит, что городское начальство перевело в 1963 году П. П. на должность директора филармонии, я не знаю сколько времени он пробыл на это месте, поскольку в 1964 году уехал учиться в Москву, поступив на очное отделение ГМПИ им. Гнесиных историко-теоретико-композиторского факультета.
Последний раз с П. П. все-таки довелось увидеться. Я после работы в Ростовской, а затем в Астраханской консерватории в 1975 г. вернулся в Барнаул во вновь открывшийся Алтайский институт культуры. А в 1976 г. отмечался 20-летний юбилей училища, на которое был приглашен П. П., к сожалению, я не выяснил, откуда он приехал. И вот, дождавшись окончания сутолоки, когда можно было побеседовать, предстал перед П. П. Он обрадовался моему появлению, пытался расспросить меня очевидно обо мне, но я опередил его, высказав все, что я о нем думал. Он внимательно выслушал, не перебивая, наклонив голову, а потом сказал, перейдя на вы: «Ну это вы оставьте себе». Я действительно оставил это себе, а сейчас раскрываю перед читателем то, что я знаю об этом удивительном человеке, благодаря тому, что эту возможность мне предоставила нынешний директор училища Светлана Ивановна Прокофьева, за что ее глубоко благодарю.
Почетный профессор РАМ им. Гнесиных Борис Андреевич Тарасов.
Мой Добрый Ангел
Мой Добрый Ангел (в дальнейшем-Д.А.) начал «работать» еще до моего рождения. Моя старшая сестра, Инна, родилась в 1939 году, в 1940 году моя мама сделала аборт, а в 1941 году опять забеременела, а тут 22 июня 1941 года началась война. Казалось бы, тем более надо было делать второй аборт, но родители почему-то решили дать мне жизнь. Обо всем этом мне рассказала сестра спустя долгие годы. Кстати, Инна же придумала мне имя – Боря. Она так и говорила: «У нас будет мальчик Боря», когда еще до определения пола было еще далеко. Итак, я родился 10 февраля 1942 года.
Д.А. направил меня после окончания Искитимской ДМШ в Барнаул, а не в Новосибирск, как этого следовало ожидать. Дело в том, что в Барнауле жили родственники отца – два его брата и их родители, а мой отец погиб на фронте в 1942 году. Решено было, что в случае поступления, я буду жить у них. Так и случилось.
В Барнаульском музыкальном училище Д.А. был назначен директор Петр Павлович Спирин, который, во-первых, дал мне работу в музыкальном училище, во-вторых, послал меня на учебу в Москву, в ГМПИ им. Гнесиных, а не в Новосибирскую консерваторию, как это было принято для всех последующих выпусков.
После поступления в ГМПИ им. Гнесиных на заочное отделение по классу баяна, Д.А. решил, что мне надо оставить учебу на баяне и перейти на теоретическое отделение Училища им. Гнесиных, а через 2,5 года поступать в ГМПИ им. Гнесиных вторично, что и было мною выполнено.
Следующей акцией Д.А. стало то, что я учился по специальности (писал диплом) у выдающегося специалиста в области истории теории оркестровки Фабия Евгеньевича Витачека, у которого я был единственным студентом за всю его жизнь. Я имею ввиду студентом-музыковедом.
По окончании института я работал в Ставропольском музыкальном училище. И тут мне Д.А. помог при устройстве на ВУЗовскую работу. На госэкзамены в училище приехал в качестве председателя госкомиссии доцент Ростовского музыкально-педагогического института (так тогда называлась консерватория) Николай Фомич Тифтикиди. Я пришел к нему в номер гостиницы, чтобы побеседовать относительно работы в институте. Он выслушал меня внимательно и сказал, что у него на кафедре в данный момент есть только одна вакансия – преподаватель по чтению партитур. Я тут же отказался, сказав, что я не пианист, и боюсь, что не справлюсь с такой задачей. И тут он, видимо желая помочь мне, сказал: «Может быть Вы еще что-то умеете?» - «Да, я преподавал инструментовку на народном отделе в училище». Он одобрил эту идею и дал мне телефон заведующего кафедрой народных инструментов А.В. Сахарова, сказав, что по приезду в Ростов переговорит обо мне с Сахаровым. Так я попал на ВУЗовскую работу в 1969 году.
При переезде на работу в Астраханскую консерваторию, через 4 года, Д.А. помог тем, что еще во время работы в Ростове я совершенно случайно познакомился с заведующим кафедрой теории и истории музыки Астраханской консерватории М.А. Этингером в Москве. Он записал на всякий случай мою фамилию. Это знакомство пригодилось через два года, когда мне понадобилось переехать в Астрахань.
В Астрахани произошло событие, которое я считаю неизбежным, хотя и нежелательным – я развелся с первой женой. Брак этот был студенческим и по сути, должен был распасться, тем более он был бездетным. Я обратил внимание на некую абитуриентку, которая поступала в консерваторию. Подкупало в ней то, что она была из Барнаула. В консерваторию она не поступила, и тут на меня нашло какое-то затмение. Я устремился за ней в Барнаул. Приехав, я обнаружил, что там открывался Алтайский институт культуры. Здесь Д.А. отлично поработал.
Надо сказать, что теща была против этого брака и она все-таки добилась своего на нашем пути. В Барнауле я прожил 5 лет, работая 3 года в институте культуры и 2 года в музыкальном училище. Интересно, как сработал Д.А. в этом случае. Меня позвали работать в Новосибирскую консерваторию, я уволился из института, приезжаю в Новосибирск, чтобы оформить поступление на работу, но тут случилось непредвиденное – ректор консерватории, который присылал мне телеграмму с приглашением на работу внезапно переменил свое решение, сославшись на отсутствие нагрузки. Я сразу догадался, кто «накапал» на меня и благодарен ему за это. Через 12 лет представился случай высказать ему в глаза.
И тут Д.А. помог, поскольку этим летом из училища уволились 2 педагога с отделения народных инструментов и меня приняли в музыкальное училище. Между тем мой брак продолжал разваливаться и дело шло к разводу. И вот, на 5 году жизни в Барнауле я понял, почему Д.А. отвел меня от Новосибирска. Дело в том, что в 1979 году должна была приехать в Красноярск выпускница ГМПИ им. Гнесиных Богомолова Валентина, согласно распределению, но когда она явилась на подпись, ей сказали, что распределение в Красноярский институт отменяется, и что она направляется в Алтайский институт культуры. Таким образом Д.А. и свел нас в Барнауле. Но этим он не ограничился, он послал на гастроли из Красноярска на гастроли моего друга, Аверина Владимира Александровича, с которым я работал вместе в Астрахани, и который, переехав в Красноярск, был заведующим кафедры народных инструментов Красноярского института искусств. Увидев меня в Барнауле, он тут же позвал меня на работу в Красноярск, и я в январе 1980 года прошел по конкурсу на кафедру с тем, чтобы с нового учебного года там работать.
Я уже с полгода не жил дома, и весной 1980 года подал на развод. Жена, как принято говорить в народе, «из вредности», решила не давать мне развода. А ведь мне надо было время, чтобы зарегистрировать новый брак и уехать в Красноярск. Читатель уже ожидает помощь Д.А., и точно это случилось. Когда-то, пару лет назад я был в гостях у своего друга, который жил в Новосибирске, но на лето приезжал к родственникам в Барнаул. На этой вечеринке была одна женщина, заместитель прокурора Алтайского края. В шутку она сказала мне, что я могу обратиться к ней, по случаю. Теперь эта помощь была бы кстати. Я провожал ее тогда домой и невольно запомнил дом, в котором она жила. Дождавшись вечером, когда она появилась у подъезда, я напомнил ей о себе и об ее обещании. Она сказала, что все сделает. И так и случилось. Судья нас развела, мы подали заявление в ЗАГС, заключили с Валентиной брак и в августе 1980 года прилетели в Красноярск.
Там нас ожидала неудача. Дело в том, что у меня была вакансия, так как я прошел по конкурсу – ВУЗ был новый и нагрузка росла ежегодно, а для Валентины нагрузки не было, так как Аверин ждал дирижера из Ленинградской консерватории, которого он заказал раньше. Но дело устроил Д.А., благодаря его усилиям, этот дирижер не приехал, так как поступил в аспирантуру, и вопрос отпал сам собой.
Прожили мы с Валентиной душа в душу 33 года. Это была главная женщина (естественно после матери) в моей жизни. У нас есть чудесная девочка, дочь Женя. Жена умерла в 2012 году от саркомы легкого.
К 1992 году, так сложилось, что уезжала семья Михаила и Елены Курицких в Подмосковье. У его жены училась на фортепиано Женя. Михаил Курицкий позвал нас тоже переехать. Дело в том, что он в течение 7 лет пытался найти обмен квартиры на Подмосковье, и наконец ему повезло. И тут он видит на столбе объявление об обмене квартиры на Ногинск. Мы с Мишей поехали из Красноярска в Ногинск. Он уже оформлял обмен, а мне предстояло сделать заявку. Выяснилось, что заседание комиссии состоялось двумя днями ранее, а следующее будет только через 2 недели. Дальнейшее постараюсь изложить как можно короче. В общем, Д.А. поработал на славу. Подозреваю, что на пару с Д.А. нашей Жени, мы переезжали из-за нее. Семь раз все висело на таком тоненьком волоске, что и подумать страшно. Раскрою лишь одно действие Д.А. моего и дочери: женщина. Заведующая общим отделом Райисполкома Рябкова сказала, бегая за подписями документов, свидетельствующих о том, что обмен был рассмотрен тремя днями раньше, что все 6 заведующих отделами на месте, добавив, что такого никогда не было.
Переехали, стали работать в Электростальском музыкальном училище. Это девять минут езды на электричке от Ногинска и полтора часа от Москвы.
В 90-е годы выживали, как и вся страна. О том, что мы переехали узнал Валерий Петров, мой сокурсник по институту. Он предложил мне подработать на журнал «Народник». Я согласился. Лет 10 сидел в Московских и Петербургских архивах. Результатом этой работы стала книга «Очерки по истории русского-народного оркестра», объемом в 475 страниц. Д.А. подыскал для меня гениальную типографию, возглавляемую Иваном Плигиным, с которым я сотрудничаю уже 5 лет.
Д.А. дочери тоже не дремал. Она окончила Электростальское музыкальное училище им. А.Н. Скрябина у талантливого педагога Ступаковой Ольги Яковлевны, затем РАМ им. Гнесиных по классу фортепиано и аспирантуру у Владимира Мануиловича Троппа. В настоящее время она старший преподаватель, лауреат международных конкурсов.
О своей жене Валентине я написал книгу.
Что касается книги «Очерки о истории русского-народного оркестра», то Д.А. помог мне в лице Андрея Горбачева, уверовавшего в написанное мной, и вынесшего на обсуждение вопрос о присуждении мне звания Почетного профессора академии РАМ. Кафедра единодушно поддержала предложение и 21 февраля 2023 года Советом РАМ им. Гнесиных я был утвержден в этом звании, что, согласитесь, является достойным завершением карьеры.
Три года назад мой Д.А. опять отличился. Дело в том, что дочь должна была уехать с мужем в Рим (он итальянец) рожать вторую дочку. Встал вопрос, с кем оставить меня. Было решено, что я сниму квартиру в Электростали или Ногинске, где у меня много друзей, а квартиру в Реутове они будут сдавать в аренду. Я поделился этим планом с одной из знакомых, чудесной женщиной, живущей рядом с Реутовом, в Никольском. Она предложила мне переехать к ней. Марина Николаевна живет одна в собственном доме в дачном поселке. В результате я живу уже третий год как у «Христа за пазухой».
В заключении я скажу, что естественно, я рассказал не обо всех случаях работы Д.А., их насчитывается еще несколько десятков, более мелких. Также доложу, что не все случаи исполнялись с его помощью, кое-что зависело и от моих собственных усилий. Если выразить это соотношение с помощью цифр, получится 50 на 50. Но вообще я должен сказать, что я счастливый человек (не смотря на все потери) и говорю об этом в преддверии своего 82-летия.
 Об авторе
Об авторе